Так что позвольте предложить вам присоединиться к разговору о том, что же делает жизнь достойной того, чтобы ее прожить. Вместе мы попыта- емся найти «другой накал» и «глубо- кое единство» с жизнью — путь к по-настоящему счастливой жизни.
В первой половине книги мы по- говорим о людях, ищущих счастливую жизнь. Что побуждает их принимать те или иные жизненные решения? И яв- ляются ли эти решения действенными?
Во второй половине книги мы рассмотрим подробнее вопрос поиска истины. Можно ли познать истину? Какое это имеет значение для нашей повседневной жизни? В процессе этого помните о небольшой притче об Эмили и ее сыне. Я надеюсь сделать для вас то же самое, что она делает для Макса, рисуя картинки, которые помогают ему понять свой мир. Я хочу нарисовать словесные картины, показываю- щие истину о том, как устроен мир, и каково наше место в нем.
Но в конечном итоге, даже после самых лучших разъяснений, мы сталкиваемся с дополнительной проблемой. Способны ли мы жить счастливой жизнью? Где найти силу и мужество, в которых мы так нуждаемся? В заключительных главах я дам единственный известный мне ответ на эти вопросы — единственный, который на практике до- казал свою состоятельность.
В качестве метода для исследования этих крайне важных идей я использую истории — некоторые из моей собственной жизни, не- которые из жизни известных людей. Часть из них будут взяты из ки- нофильмов, а другие — из биографий тех, кто творил историю. Надеюсь, что эта мозаика человеческих историй — отчасти красоч- ных, отчасти мрачных — поможет вам увидеть вашу собственную ис- торию и убеждения, подталкивающие вас к поиску смысла, цели и истины.
В этой книге уделяется так много внимания жизненным исто- риям не просто потому, что они увлекательны, но еще и по той при- чине, что человеческий опыт позволяет увидеть реальную жизнь и максимально тесно соприкоснуться с ней, — такой, как она есть. Я
В В Е Д Е Н И Е
не рассказываю истории лишь для того, чтобы проиллюстрировать какие-то идеи. Они — неотъемлемая часть самого процесса поиска решений. Мышление и жизнь слиты воедино. Мы мыслим для того, чтобы знать, как жить, и узнаем, что есть истина, лишь в процессе жизни. Счастливая жизнь требует совокупности этих двух элементов, неразделимости жизни и мышления, того самого «глубокого един- ства», о котором сказал поэт.
Создание этой книги вместе с моим давним, талантливым кол- легой Гарольдом Фикеттом превратилось в настоящее приключение. Я постигал идеи и приходил к заключениям, которых раньше не мог даже представить, и уж тем более сформулировать каким-то иным способом. То, что я обнаружил, просто восхитительно. Убедитесь сами. Это путь к настоящей счастливой жизни.
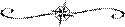 |

В поисках
Счастливой
жизни
 |
Глава 1
Неизбежный вопрос
|
ностью и решимостью, словно что-то или кого-то разыскивает.
Позади него, стараясь не отставать, идет его семья. Ближе всех к нему — его супруга, а в паре шагов за ней — сын со своей женой и детьми.
По взгляду мужчины видно, что в этот момент он не думает о своей семье, хотя явно куда-то ведет их за собой. Его глаза широко открыты и устремлены в одну точку, словно скованные каким-то страхом. По шевелению его губ видно, что он едва сдерживает эмо- ции. Его семья видит слева от себя длинный изгиб побережья, слы- шит шелест волн и вдыхает соленый аромат моря, но мужчина не смотрит по сторонам. Напряженный, но исполненный решимости, он продолжает ковылять вперед.
Наконец, свернув направо, он ступает на огромную поляну, ис- пещренную тянущимися до горизонта рядами из тысяч белых кре- стов. Местами эта процессия надгробий, резко контрастирующих с зеленым газоном, перемежается еврейскими звездами. Продвигаясь по этому огромному кладбищу, старик еще больше ускоряет шаг. Его семья старается не отставать.
Этот решительный марш Джеймса Райана, наконец, останавли- вается перед одним из крестов. Он вытирает дрожащей рукой свои
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
покрасневшие глаза и судорожно всхлипывает, пытаясь восстановить дыхание. Надпись на кресте гласит: «Капитан Джон Миллер. 13 июня 1944 года». Это был его капитан.
Оставив попытки сдержать слезы, Райан в очередной раз всхлипнул и прикусил губу. Судорога сдавила ему горло, почти лишив возможности дышать. Его ноги подкосились, и он упал на ко- лени перед крестом. Рядом тут же оказалась жена, положив руку на его вздрагивающие плечи. По другую сторону остановился сын. Райан был рад, что семья с ним, но они не могли помочь в том, что требовалось сделать.
Он пробормотал, что с ним все в порядке, и родные отступили на несколько шагов, оставив его наедине с мыслями, давившими на- столько тяжелым грузом, что он едва справлялся с их весом.
Вплоть до этого момента Райан не осознавал, что то, к чему он так стремился, хотя и со страхом, было своего рода сделкой — чем- то наподобие обмена. Для него этот визит на американское военное кладбище в Нормандии не был простой экскурсией. Это был шаг ог- ромной важности — Райан был в этом уверен, хотя даже сейчас не мог сказать, почему. Охватившие Джеймса эмоции лишь подтвер- ждали его правоту.
Как бы там ни было, это касалось вопроса, преследовавшего Райана всю жизнь — того самого невысказанного вопроса, который привел его на это кладбище. Казалось, он незримо присутствовал во всех воспоминаниях — не только в приятных.
Теперь, когда Райан смотрел на могилу своего капитана, он должен был задать этот вопрос.
 |
Десятилетиями ранее, 6 июня 1944 года, капитан Миллер и его люди высадились на Омаха-Бич. Это был ужас, обошедший Джеймса Райана стороной, поскольку он воевал в составе 101-й воздушно-де- сантной дивизии. Его подразделение забросили в Нормандию ночью, накануне высадки морского десанта. Как происходила сама высадка, он узнал только позже из рассказов сослуживцев и кадров кинохро- ники. Хотя Германия не ожидала атаки в месте, выбранном Эйзен- хауэром, воздушный десант не ослабил немецкие позиции ни на йоту. Как только бронированные передние борта десантных катеров от- крылись в направлении берега, американские солдаты оказались под шквальным огнем вражеских пулеметов. Многие из тех, кто сидел ближе к выходу, погибли на месте, сраженные немецкими пулями. Те же, кто перепрыгивали через борта катеров, чтобы добраться до берега вплавь, могли укрыться только за «бельгийскими воротами»
Г Л А В А 1
и стальными «ежами» — сварными оборонительными сооружениями, которые были расставлены рядами вдоль пляжа для противодействия танковой атаке.
Морские десантники пробивались вперед через волны, но мно- гие не успевали сделать и несколько шагов, как падали замертво под обстрелом не только пулеметов, но еще и артиллерии. Тела разлета- лись в стороны от взрывов. Раненые, подбирая свои оторванные руки, пытались сделать еще пару шагов вперед навстречу смерти. Красные от крови волны, накатываясь на берег, омывали разбросанные по- всюду мертвые тела.
Капитану Миллеру и нескольким его подопечным удалось до- браться до волноотбойной стены. Хотя половина солдат, участвовав- ших в первой атаке на Омаха-Бич, пали в бою, остальным удалось прорвать переднюю линию немецкой обороны.
Вскоре после ада высадки десанта капитану Миллеру во главе отряда из семи человек было поручено выяснить местонахождение десантника Джеймса Райана и доставить его домой — непременно живым. Приказ вывести из зоны боевых действий рядового Райана отдал лично начальник штаба, генерал Джордж Маршалл. Два стар- ших брата Джеймса погибли в Нормандии, а третий пал в бою в Новой Гвинее. Маршалл решил, что смерть трех сыновей — достаточ- ный вклад в войну для любой матери.
Отряд капитана Миллера обнаружил Райана среди остатков 506-го парашютно-десантного полка, который занял позиции на бе- регу реки для обороны моста. Им было приказано удержать этот мост любой ценой или, в качестве крайней меры, взорвать его, чтобы им не смог воспользоваться враг. Когда прибыл отряд капитана Мил- лера, чтобы вывести Райана в тыл, тот отказался уйти с ними. Мил- лер спросил, что он должен сказать матери Джеймса, когда ей в четвертый раз вручат сложенный американский флаг. Райан ответил:
«Скажите ей, что, когда вы меня нашли, я был среди единственных оставшихся у меня братьев, и я никак не мог их бросить. Думаю, она поймет».1
Капитан Миллер и его подопечные гневно объяснили Райану, что, разыскивая его, уже потеряли двух своих товарищей. Наконец, Миллер решил, что его отряд присоединится к обороне моста и будет защищать Райана в ходе сражения. Вскоре последовала атака немцев — почти целой роты солдат, двух самоходных орудий и двух
«тигров». Американцы заманили танки на главную улицу деревни, где устроили засаду. Единственное, что было разрешено делать Ра- йану, — это бросать самодельные ручные гранаты. Капитан Миллер не позволял Джеймсу отходить от него ни на шаг, ежесекундно за- щищая рядового.
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
И вот, один из танков очередным выстрелом орудия отправил в вечность их снайпера, а еще один солдат погиб в рукопашном бою от удара ножом в сердце. Несмотря на всю свою изобретательность, американский отряд не мог сдержать столь превосходящие силы врага, и потому отступил к противоположному краю моста. Во время отхода один из сержантов упал, сраженный пулей.
Капитан Миллер получил пулю меж ребрами, когда пытался починить проводку взрывного устройства. От близкого разрыва сна- ряда он был сильно контужен, почти без сознания. Утратив всякую надежду, он начал стрелять из пистолета в надвигающийся прямо на него танк.
Вдруг, над его головой, пронзительно ревя мотором, мелькнул штурмовик, и через мгновение вражеский танк превратился в груду обломков. Немецкие пехотинцы обратились в бегство, а через не- сколько минут подошло моторизированное подкрепление союзных войск.
Из отряда, прибывшего ради спасения Райана, относительно невредимыми остались лишь двое солдат. Остальные погибли или на- ходились на пороге смерти.
…Капитан Миллер лежал, сгорбившись, возле того места, где его настигла пуля, упершись спиной в стену моста. Райан, полный отчаяния и душевной боли, оказался наедине со своим спасителем в последние мгновения жизни Миллера. Он видит, как капитан со сквозным ранением легкого, хватает ртом воздух, пытаясь ему что- то сказать, и вот, Миллер делает последний вздох, успев прохрипеть лишь одно: «Джеймс. Заслужи это… заслужи это».
 |
Были ли эти прощальные слова умирающего последней волей или приказом?
Рядовой Райан всегда воспринимал их именно так.
Очнувшись от нахлынувших на него воспоминаний, престаре- лый Джеймс Райан, глядя на надгробие, начал тихо разговаривать со своим мертвым командиром. Он рассказывает капитану о том, что с ним пришла его семья, и признается, что не знал точно, какие чувства испытает, оказавшись на этом кладбище. Райан говорит, что размыш- лял об их разговоре на мосту и о предсмертных словах Миллера каж- дый день своей жизни. Он старался жить достойно и надеется, что ему это удалось. По крайней мере, Райан верит, что в глазах капи- тана его жизнь «заслужила» жертву, принесенную Миллером и его солдатами, которым пришлось сложить свои головы ради спасения товарища.
Г Л А В А 1
Шепча эти слова, Райан невольно задается вопросом: как любая жизнь, сколь бы достойно она ни была прожита, может оправдать жертву его друзей? Старик поднимается на ноги, но не чувствует внутреннего облегчения. Его вопрос остался без ответа.
К нему опять подходит жена. Взглянув на нее, Райан умоляюще спрашивает: «Скажи, я прожил достойную жизнь?»
Смущенная его словами, она отвечает: «О чем ты?»
Райан должен выяснить ответ, и потому пытается задать свой вопрос по-другому: «Скажи, я достойный человек?»
Жена по-прежнему смущена, но, увидев, насколько Джеймс серьезен, глубоко задумалась над ответом. Наконец, с искренностью и почтением она говорит: «Да». Жена Райана возвращается к осталь- ным членам семьи, которым, видно, уже не терпится поскорее поки- нуть кладбище.
Прежде, чем присоединиться к ним, Джеймс Райан становится по стойке смирно и отдает честь своему павшему в бою товарищу. Доблестный старый солдат!
 |
Кто из нас, наблюдая за этой сценой из великолепного фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», не задается тем же самым вопросом: «Достойную ли жизнь я прожил?»
Существует ли какой-нибудь точный метод вычисления ответа на этот вопрос? Каким образом мы определяем достоинство жизни? На основании чего можно сказать, что наши добрые дела доста- точно хороши? Оправдывает ли наша жизнь жертвы, приносимые другими? Неизбежный вопрос: «Прожил ли я жизнь достойно?» — исследует глубины наших сердец.
Не каждый переживает то же, что пережил Райан, в столь дра- матичной манере. Тем не менее, вопрос о достойной жизни и другие, подобные ему, преследуют каждого человека с самых ранних лет — лишь только мы начинаем осознавать себя как личность. Что-то бу- доражит нас в самом центре нашего естества, требуя ответов на мно- гие вопросы: «Есть ли у жизни какая-то цель? Одиноки ли мы во вселенной? Существует ли какая-то сила, — назовите ее судьбой или провидением, — направляющая нашу жизнь?»
Разумеется, нечасто мы можем сформулировать эти вопросы настолько четко. Самыми сложными вопросами мы обычно задаемся в самые трудные времена. Посреди трагедии или серьезной болезни, столкнувшись с насилием и несправедливостью, или увидев, как вдре- безги разбиваются наши личные надежды, мы взываем: «Почему в этом мире царит такой хаос? Могу ли я хоть как-то это изменить?»
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
В этих извечных вопросах человеческого бытия скрывается некая тайна. Сомневаюсь, что у кого-то, кто смотрел фильм «Спасти рядового Райана» или читал бессмертные произведения литературы, вроде «Братьев Карамазовых» Достоевского или «Чумы» Камю, когда-либо возникали сомнения в важности таких вопросов. Равно как и у каждого, кто хоть раз восхищался красотой Млечного Пути или сидел весь в слезах у постели умирающего близкого.
От всех остальных творений люди отличаются самосознанием. Мы понимаем, что живем, и знаем, что умрем, и неизбежно задаемся вопросами о том, почему моя жизнь именно такова, и что вообще все это значит.
Не кажется ли странным, что каждый из нас мгновенно пони- мает, почему рядовой Райан чувствовал себя обязанным прожить до- стойную жизнь? Думал ли он, что этим сможет оправдать жертву своих товарищей? Очевидно, что думал, и мы чувствуем, что он был прав. Но почему Райан считал, что он в долгу перед ними? Почему он считал, что их поступки должны быть возмещены его делами, как будто слепое правосудие с мечом в одной руке и весами в другой действительно существует? И почему средством оплаты его долга должна стать именно добродетель? Почему не месть? Почему Райан не задался целью убить как можно больше бывших нацистов? Навер- ное, потому, что это не принесло бы ему удовлетворения. Если жертву вообще можно как-нибудь отплатить, то это можно сделать лишь через жертву, а не убийство. Мы знаем это. Но откуда мы это знаем?
Обобщенный ответ заключается в нашей человеческой природе. Мы — люди, и потому задаем вопросы о смысле и предназначении. У нас есть врожденное чувство справедливости и личная потреб- ность в торжестве правосудия. Нравственные нормы в разных куль- турах различны, но возьмите людей, живущих в первобытном обществе в какой-нибудь глухой деревне в Папуа-Новой Гвинее, по- кажите им фильм «Спасти рядового Райана», — и они сразу же пой- мут, в чем подоплека. Они поймут вопросы Райана и его чувство благодарности.
Слово «должен» в вопросах, вытекающих из жизни рядового Райана, мгновенно переносит нас в сферу этических критериев. Это подразумевает, что на такие вопросы должно существовать множе- ство ответов, и некоторые из них неминуемо лучше других — часть ответов верна, в то время как остальные ошибочны. Так откуда же возникает это «должен»? Что скрывается за нашим врожденным умением распознавать подобные вещи?
Как минимум, оно указывает на идею о том, что все мы живем в некоей нравственной вселенной, и это является одной из причин,
Г Л А В А 1
почему люди, независимо от образования, экономического положе- ния или места рождения, непреодолимо религиозны. По крайней мере, мы знаем, что есть кто-то или что-то, перед кем или чем мы в долгу за свое существование.
Наши вопросы также предполагают, что мы можем избирать ответы на них и поступать в соответствии с нашими решениями. Сво- бода человеческой воли — пусть даже в ограниченном виде — встроена в сами механизмы человеческого разума.
Говоря о вопросах жизни, судья Верховного суда США Энтони Кеннеди при рассмотрении дела «Регулирование рождаемости про- тив Кейси» однажды отметил: «В сущности свободы лежит право определять собственные концепции существования, смысла жизни, вселенной и тайны человеческой жизни».2 Кеннеди утверждал, что убеждения в отношении этих вопросов определяют критерии лично- сти человека. Мы — те, кто мы есть, именно такой вид творений, по- тому, что обязаны приходить к собственным заключениям в отношении извечных вопросов. Хотя я совершенно не согласен с тем юридическим выводом, который судья Кеннеди сделал из своего утверждения, должен признать, что представленный им перечень дей- ствительно содержит то, что делает нас людьми.3
Я помню момент в детстве, когда впервые начал задаваться этими извечными вопросами. Особенно яркие воспоминания у меня остались о воскресном декабрьском утре 1941 года, когда наша семья прильнула к радио, слушая с растущей тревогой новости о нападении японцев на Перл-Харбор. Я был уверен, что теперь нам придется сра- жаться с японскими солдатами или немецкими офицерами СС на ули- цах нашего тихого пригорода Бостона. Помню, как я спросил у отца:
«Почему нельзя обойтись без войны, кровопролития и смертей?» Он ответил — ошибочно, как я сейчас думаю, — что все это — часть есте- ственного процесса, предотвращающего перенаселение. Нечто сродни голоду или эпидемиям.
Во время войны я организовывал в школе кампании по сбору средств и даже продал с аукциона свою коллекцию авиамоделей, ко- торой очень дорожил, чтобы собрать деньги на нужды армии. Я ин- стинктивно понимал, что обязан исполнить свою часть для защиты наших свобод. Я хотел, — даже в двенадцатилетнем возрасте, — чтобы моя жизнь имела смысл.
Я также вспоминаю, как много раз стоял ночью в нашем дворе, когда весь мир вокруг был погружен во тьму. Все окна в округе были закрыты светомаскировочными шторами для защиты от возможных налетов авиации. Я смотрел на мерцающие россыпи звезд у себя над головой и размышлял о том, где начинается вселенная, где она за- канчивается, и что я делаю на этой земле. Будучи студентом, я пы-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
тался осознать концепцию бесконечности, понять, что находится за этими звездами.
В последующие годы я не раз задавался подобными же вопро- сами — особенно в моменты стресса. Я задавал их себе, как госу- дарственный деятель, как муж и отец, как отбывающий наказание преступник, а затем — как христианский лидер. Множество раз во внутренних тайниках своего сознания я спрашивал то же самое, что Райан: «Был ли я достойным человеком? Прожил ли я жизнь до- стойно?» Иногда я затруднялся ответить, в другие же моменты был уверен в своей несостоятельности. Но где мы можем найти ответы? У кого можно спросить? Кто способен рассказать нам истину о значении нашей жизни?
Хотя поиски ответов на подобные вопросы порой очень трудны и полны огорчений, стремление найти истину о жизни — это именно то, от чего жизнь становится ценной и радостной. Способность пред- принять такие поиски и делает нас людьми. Эммануэль Мунье, осно- ватель французского философского течения «персонализма», отмечал в своих трудах, что человеческая жизнь характеризуется
«божественной неугомонностью». Отсутствие покоя в наших сердцах подталкивает нас к поискам смысла жизни. Это повеление, запечат- ленное в «неугасших душах».4 Папа римский Иоанн Павел II изящно подытоживает этот вопрос: «Таким образом, человека можно опре- делить, как ищущего истину».5
Что станет истиной нашей жизни и нашей судьбы? Большинство людей хочет подойти к надгробию капитана Миллера (или любому другому судилищу, которое они рисуют в своем воображении) с долей уверенности в том, что они прожили достойную жизнь.
Но что такое достойная жизнь? Каким образом она вмещает в себя ответы на извечные вопросы? Как ее прожить?
Прожил ли я достойную жизнь? А вы?
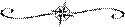 |
 |
Глава 2
Разбитая жизнь
|
тилетия возрастающего участия США в делах страны». Эта история, написанная Нейлом Шиханом при участии аналитика Хедрика Смита, рассказывала о том, что в 1967 году бывший министр обороны Роберт Макнамара поручил Пентагону провести сверхсекретный анализ аме- риканского участия в жизни Вьетнама, начиная с времен президент- ства Трумэна. Это исследование, написанное несколькими авторами, заняло три тысячи страниц, к которым в качестве дополнения при- лагались еще четыре тысячи страниц официальных документов.
Непосвященному читателю оно могло показаться не более чем
«сухим» описанием исторических событий, окружавших чрезвы- чайно непопулярную войну во Вьетнаме. В то время я был Особым советником президента Никсона, и для тех из нас, кто относился к близкому окружению президента, это была далеко не «сухая» исто- рия. Заголовок выглядел пугающе, предвещая надвигающуюся ката- строфу, способную потрясти нацию до самого ее основания и оказать на всех нас такое влияние, которого никто не мог даже во- образить.
В целом, этот отчет, названный «Бумаги Пентагона», представ- лял собой взгляд изнутри на то, как Америка впуталась в войну, в конце концов подорвавшую веру людей в правительство и приведшую к той политике цинизма и взаимных обвинений, которую мы видим сегодня. Вскоре выяснилось, что этот строго засекреченный документ был выкраден из Министерства обороны одним из его авторов — Да- ниэлем Эллсбергом, — и передан в 1969 году в Сенатский Комитет по международным отношениям, а затем, за несколько месяцев до его
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
первой публикации, — в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и семнадцать других газет.
С самых первых статей, рассказывающих о том, что было об- наружено в ходе исследования, «Таймс» стала приводить выдержки из сверхсекретных документов, начиная с отчета Макнамары прези- денту Джонсону о ситуации в Сайгоне в 1963 году. Эти выдержки подтвердили наихудшие подозрения американцев: правительство с самого начала знало, что их усилия вряд ли увенчаются успехом, что союзники из южного Вьетнама не заслуживают доверия и зачастую продажны, а государственной стратегии США не хватает внутренней согласованности.
Это явно противоречило официальным сводкам с линии фронта, неизменно содержавшим хорошие новости. Администрация Джонсона рассказывала американцам о том, что мы завоевываем сердца и умы вьетнамцев. Подсчет жертв боев показывал, что потери врага постоянно возрастают. Тем не менее, почему-то нам требова- лось все больше и больше солдат. Дошло до того, что во Вьетнаме уже сражалось полмиллиона американцев.1
КОМНАТА РУЗВЕЛЬТА, 14 ИЮНЯ 1971 ГОДА
В понедельник утром — на следующий день после публикации этой истории в «Таймс» — старший персонал президента Никсона собрался, как это было каждый день, в восемь часов в Комнате Руз- вельта, расположенной в западном крыле Белого дома. Председа- тельствовал на собрании авторитарный глава администрации Никсона, Боб Холдеман. Среди прочих присутствовал «правая рука» Холдемана по вопросам внутренней политики Джон Эрлихман, а также — неофициальный глава внешнеполитического сектора Генри Киссинджер, занимавший пост советника по национальной безопас- ности. Пресс-секретарь Рон Циглер выглядел измотанным от той бомбардировки, которой его с раннего утра подвергли агрессивно настроенные представители прессы. Я также был на этом собрании вместе с юрисконсультом Биллом Тимминсом и шестью другими со- трудниками. Одного взгляда на угрюмое лицо Холдемана было до- статочно, чтобы понять, что нас ожидают неприятности.
Комната Рузвельта находится в эпицентре происходящих в Белом доме событий. Основным элементом его восточной стены яв- ляется камин с отделкой кремового цвета, расположенный между двумя дверями из красного дерева, вмонтированными в полуарки. Правая из них ведет через холл прямо ко входу в Овальный кабинет. Двумя годами ранее президент Никсон заново декорировал этот кон- ференц-зал, переделав так называемую «Рыбную комнату» в Ком- нату Рузвельта. На северной стене висят два бронзовых барельефа
Г Л А В А 2
Рузвельтов: Тедди и Франклина, — а над камином — портрет Теодора Рузвельта в мундире полковника «Мужественных всадников» верхом на лошади. На самом камине стоит Нобелевская премия мира, полу- ченная Теодором Рузвельтом в 1906 году за его вмешательство в рус- ско-японский конфликт 1905 года — первая Нобелевская премия, полученная американцем. Огромный, роскошной отделки стол для совещаний в стиле неоклассицизма окружен кожаными креслами, благодаря которым долгие заседания становятся чуть более ком- фортными.
Поскольку Комната Рузвельта расположена во внутренней части западного крыла, в нем отсутствуют окна. Несмотря на свою изысканную обстановку, он иногда напоминает бетонный бункер — особенно когда его обитатели, как мы в то июньское утро, чувствуют себя в полной боевой готовности.
В те дни в Белом доме царило напряжение. Он находился в по- стоянной осаде толп демонстрантов, маршировавших за воротами с транспарантами наподобие «Убийцы Никсона» и «Мясники с Пен- сильвания-авеню». Нередко, когда полиции (иногда при поддержке армии) приходилось расчищать дорогу для сотрудников Белого дома, в воздухе плавали клубы слезоточивого газа, смешанные с дымом ма- рихуаны. Мы уже представляли, что будет теперь, когда передовицы газет объявили о секретных документах, подтверждающих наихудшие опасения людей.
Холдеман призвал собрание к порядку, произнес обычное всту- пительное слово и сразу же перешел к реальной угрозе, возникшей из-за публикации в «Таймс».
— Президент спрашивает нашего совета, — хмуро сказал он. — Все это может иметь катастрофические последствия.
— Прежде всего, надо арестовать предателя, укравшего эти до- кументы, — предложил кто-то.
— Сенат готов урезать финансирование войны, — сказал Тим- минс. — Белый дом вполне может поддержать его в этом. Президента могут вынудить пойти на попятный, и тогда нам придется, поджав хвост, покинуть Вьетнам.
— Или проигнорировать Конгресс. Надо сказать, перспектива заманчивая, — добавил кто-то.
Будучи главным политическим советником президента, я увидел в этой атмосфере судного дня луч надежды.
— Погодите! Задумайтесь на минуту. Все это происходило под патронатом президентов-демократов. По крайней мере, — в основном. Кто действительно «погорел», так это Джонсон, и мы сейчас просто разгребаем его завалы. Может, нам попросить Сенатский комитет по международным отношениям провести слушания по этому делу?
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
Киссинджер, на пару минут опоздавший на собрание, остано- вился у дальнего конца стола и шумно выложил на него стопку папок.
— Вы не понимаете! — крикнул он. Его лицо было настолько багровым, что виски по сравнению с ним казались почти белыми. — Наше правительство не способно хранить тайны — и это катастрофа! Это разрушит все… — вы, слышите? — все, что мы пытаемся сделать. При таком правительстве не может быть никакой внешней политики. Подобные утечки нас просто уничтожат!
Я научился читать Генри «между строк». Чтобы подчеркнуть свою мысль и центральную роль своей власти, он часто использовал гиперболы. Киссинджер вел себя так, словно весь мир находился в его руках, и, по правде говоря, зачастую это действительно было так. Он умел привлекать других на свою сторону. Так случилось и на этот раз.
Схватив верхнюю папку, Киссинджер выдернул из нее три листа бумаги и швырнул их перед нами на стол.
— Только посмотрите на это! Телеграммы из Австралии, Вели- кобритании и Канады с протестами против публикации исследования.
«Бумаги Пентагона» вскрывают их помощь нам по тайным каналам и даже содержат переписку, грозящую разоблачить агентуру (ЦРУ и других субъектов разведки). Это дело нельзя пускать на самотек. Президент сегодня же должен принять какие-то контрмеры. В дан- ном вопросе ему нужно проявить решимость — максимальную реши- мость.
Гнев Генри был заразительным. Все мы, включая меня, приня- лись обвинять врагов — как внешних, так и внутренних. У админист- рации Никсона уже давно были проблемы с утечками информации. Мне несколько раз поручалось отслеживать их источники, и я хо- рошо знал, какой вред они причиняют. Собрание продолжалось, и люди из президентского окружения опаляли стены гневом на внут- ренних врагов. Царила атмосфера мстительности и взаимных обви- нений. Утечкам информации требовалось положить конец!
Отчасти, собравшиеся в то утро в Комнате Рузвельта «сорва- лись с катушек» из-за конфликта между нашими идеалистическими замыслами и возможностями реализовать эти идеалы. Президент Никсон говорил о грядущем «поколении мира», и, что бы ни утвер- ждали критики его правления, он действительно к этому стремился. Именно его искренность в отношении такой цели привлекла меня к нему во время нашего знакомства в 1950-е годы. Наверное, причина была в его квакерском воспитании. Он действительно ставил во главу угла вопросы поддержания мира, и потому мы, его сотрудники, при- лагали все усилия к осуществлению этих намерений. Надежды Ник-
Г Л А В А 2
сона зиждились на реконфигурации наиболее могущественных ми- ровых держав. Он хотел достичь нового баланса сил, призванного нейтрализовать неприкрытую агрессию в политике Советского Союза и, в некоторой степени, Китая.
Сегодня, оглядываясь назад, мы знаем, что у Никсона было много недостатков, но даже самые яростные его критики согла- шаются с тем, что он был выдающимся геополитиком. Он понимал все тонкости происходящего на мировой шахматной доске — напри- мер, каким образом какой-нибудь дипломатический ход в Джакарте мог повлиять на события в Аддис-Абебе. Никсон хотел вернуть наши войска домой из Вьетнама, но при условии, что это не сделает Со- единенные Штаты и западный мир более уязвимыми перед экспан- сионистскими амбициями Советов и Китая.
В то время Киссинджер проводил множество переговоров — на- столько конфиденциальных, что они должны были храниться в сек- рете даже от нашего собственного Госдепартамента. Он установил немало тайных контактов. Это попросту значило, что высокопостав- ленное должностное лицо из числа правящей элиты (обычно это кто- то, кто взаимодействует напрямую с главой государства) поддерживает контакт с высокопоставленным должностным лицом другого правительства, а дипломатическим корпусам обеих стран об этом ничего не известно. Киссинджер также пытался продвигать пе- реговоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ), кото- рые в конце концов должны были избавить мир от балансирования на грани ядерного катаклизма, и одновременно с этим принимал уча- стие в тайных переговорах с представителями Северного Вьетнама в Париже. Наконец, именно он смог договориться об исторической по- ездке Никсона в Китай. Я узнал об этом совершенно случайно, когда однажды вечером оказался вместе с президентом, Киссинджером, Холдеманом и Эрлихманом на президентской яхте «Секвойя». После парочки бокалов своего любимого бордо Никсон начал подшучивать надо мной по поводу того, что мне не удалось убедить Конгресс одобрить развитие сверхзвуковой авиации, и теперь он не сможет полететь в Китай на сверхзвуковом самолете. Услышав это, Киссинд- жер побледнел, потому что в тот момент как раз собирался отпра- виться в Пакистан, а оттуда тайно перебраться в Пекин для встречи с китайским лидером Чжоу Эньлаем.
Все эти переговоры были взаимосвязаны. Если бы нам не уда- лось достичь удовлетворительного соглашения с Северным Вьетна- мом, то было бы очень маловероятно, что их покровители из СССР согласятся на предложенные им условия по договору ОСВ. Не увидев же нашей способности «выжать» уступки из Советского Союза, ки- тайцы были бы менее заинтересованы в том, чтобы открыть двери
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
для Запада. У Китая были собственные конфликты с Советским Сою- зом (преимущественно из-за спорных приграничных территорий), ко- торые приводили к разногласиям между этими двумя странами и по другим вопросам. Чем больше мы вовлекали Советский Союз в дву- сторонние отношения, тем больше принуждали Китай к тому, чтобы отказаться от своей политики обособленности и открыться для За- пада. Мы же, в свою очередь, были рады поддерживать дисбаланс во взаимоотношениях этих двух стран, чтобы предотвратить создание китайско-советского альянса, способного превозмочь Запад.
Поэтому, когда Киссинджер «взорвался», мне было известно, как много стояло на кону. Никакое правительство не захочет, чтобы вскрылись его неофициальные дипломатические контакты. Подобные дискуссии неизбежно представляются в средствах массовой инфор- мации как политический курс, и либо укрепляют руки людей, либо неоправданно связывают их.
В то утро Киссинджер избегал упоминать о второй, еще более важной причине его гнева: первом «Меморандуме об исследованиях в сфере национальной безопасности» (NSSM1), который в общих чертах обрисовывал, каким образом можно быстро завершить войну во Вьетнаме. Этот меморандум описывал все возможные варианты, включая использование тактического ядерного оружия для разруше- ния речных плотин и затопления половины Северного Вьетнама. По- добные действия привели бы к скорому окончанию войны, но обошлись бы слишком большими человеческими жертвами. Среди других альтернатив были минирование бухты Хайфона и бомбарди- ровка Ханоя и тропы Хошимина на севере (позже эти варианты были реализованы на практике).
Возможная публикация меморандума могла создать множество проблем. Мы не хотели, чтобы северные вьетнамцы (или китайцы, или русские) узнали о мерах, к которым мы могли в конце концов прибег- нуть. Кроме того, публикация меморандума могла ужесточить позиции Северного Вьетнама, что усложнило бы переговоры. Наконец, все это стало бы серьезным ударом по репутации Генри Киссинджера.
К счастью, NSSM1 так никогда и не был опубликован. Хотя его анонимно передали сенатору Чарльзу Матиасу (либеральному рес- публиканцу от штата Мериленд) и в советское посольство, но оба по разным причинам вернули эти материалы в администрацию прези- дента.
Размышляя о том собрании 14 июня, я до сих пор нахожусь под впечатлением от огромного кризиса, серьезность которого, по моему убеждению, историки совершенно недооценивают. Мы реально боялись, что правительство Соединенных Штатов лишится всякого доверия. Если бы это произошло, то договор по ОСВ никогда не был
Г Л А В А 2
бы подписан, президент Никсон никогда не полетел бы в Китай, и мы, вполне возможно, жили бы в еще более опасном мире, чем тот, что мы видим сегодня.
То собрание стало поворотной точкой не только в судьбе пре- зидентства Никсона, но и в моей жизни. После него появились «сан- техники» — специальное подразделение Белого дома, прозвище которых объяснялось поставленной перед ними задачей остановить утечку информации. Из-за «сантехников» и диких вымыслов Говарда Ханта и Гордона Лидди началось прослушивание членов Националь- ного комитета демократической партии и был проведен несанкцио- нированный обыск в офисе психиатра Даниэля Эллсберга. То собрание в Комнате Рузвельта напрямую привело к политическому скандалу, известному сегодня как «Уотергейт», стоившему Ричарду Никсону президентского кресла.
Размышляя в тот день о последствиях публикации «Бумаг Пен- тагона» для Вьетнама, я испытывал все большие тревогу и раздра- жение. Мне хотелось окончания вьетнамской войны не меньше, чем демонстрантам на улицах. Мои двое сыновей, Уэндел и Крис, при- ближались к призывному возрасту. Мой друг Билл Мэлони, вдохно- вивший меня стать морским пехотинцем после колледжа, служил в тот момент во Вьетнаме в составе вертолетной группы, проводившей спасательные операции за линией фронта. Он находился под обстре- лами день и ночь. Джон Маккейн, сын моего близкого друга, адми- рала Джека Маккейна, находился в заточении в самой страшной вьетнамской тюрьме с мрачным прозвищем «Ханойский Хилтон». Я хотел, чтобы все эти люди вернулись домой живыми и невредимыми. Противники войны во Вьетнаме думали, что публикация «Бумаг Пентагона» поможет положить ей конец. Я же был уверен, что это скорее возымеет обратный эффект или же спровоцирует другие по- добные войны, в которых придется сражаться моим сыновьям и
друзьям.
Доктор Даниэль Эллсберг — человек, передавший «Бумаги Пен- тагона» прессе, — вскоре публично признался в том, что он сделал, и сразу же стал героем антивоенного движения. До этого кризиса я ни разу не слышал об Эллсберге. Узнав, кем он был, я не испытал к нему ничего, кроме презрения. В моих глазах он был предателем, ко- торый выкрал секретные документы во время войны и передал их средствам массовой информации, подвергнув тем самым опасности наш военный контингент, сражающийся во Вьетнаме.
В течение нескольких дней после 14 июня администрация пре- зидента в судебном порядке потребовала остановить дальнейшую публикацию «Бумаг Пентагона». Это стало знаменитым прецедентом
«предварительного запрета» — попытки властей пресечь публикацию
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
материалов. Впрочем, правовое решение проблемы быстро утратило свою актуальность. Эллсберг раздал так много копий с результатами исследований Пентагона, что их начали печатать одна газета за дру- гой. В результате генпрокурору Джону Митчеллу оказалось просто не по силам получить столько судебных запретов.
Однажды, после того, как была подтверждена роль Эллсберга в этом деле, президент вызвал меня в Овальный кабинет. Вышагивая взад и вперед перед дверями, ведущими в Розовый сад, Никсон сказал:
— Чак, я хочу, чтобы Эллсберга вывели на чистую воду. Все должны узнать о нем правду. Мне все равно, как ты это сделаешь, — но сделай это. Страна должна узнать, каким «героем» на самом деле является мистер Эллсберг.
— Да, сэр, будет сделано, — ответил я. Как бывший морской офицер, я был настолько исполнен энтузиазма в отношении этого задания, что едва сдержался, чтобы не отсалютовать президенту.
Я не знал точно, как исполнить полученный от Никсона приказ, но понимал, что должен собрать информацию о докторе Эллсберге. Если мне удастся найти какой-нибудь повод привлечь его к уголов- ной ответственности, то я так и сделаю. Если я смогу найти способ подорвать его репутацию, то я так и сделаю. Это не было детской игрой или обычной политикой. На карту было поставлено слишком многое. Я не следовал приказам вслепую, но размышлял о том, что будет правильно, а что — нет.
Я отправился к президентскому советнику по юридическим во- просам Джону Дину, и попросил раздобыть для меня досье ФБР на Даниэля Эллсберга. Они всегда составляют энциклопедические досье на всех, кто занимает правительственные должности, имеющие от- ношение к национальной безопасности, как было в случае с Эллс- бергом. Бюро опрашивает друзей, врагов, жен, бывших жен, и все, сказанное во время этих опросов, — будь то правда или ложь, — тща- тельно фиксируется.
Досье Эллсберга содержало сильно компрометирующие его ма- териалы личного характера. Казалось, мне выпала идеальная возмож- ность исполнить пожелания президента. Если бы мы смогли показать нации, что Даниэль Эллсберг — далеко не герой, то его действия по распространению «Бумаг Пентагона» предстали бы в неприглядном свете. Он оказался бы предателем, кем я его и считал, а не борцом за свободу слова и открытость правительства.
Я пригласил к себе в офис репортера из «Детройт Ньюс», чтобы поделиться с ним «теневой», то есть конфиденциальной ин- формацией, которой он мог воспользоваться при условии, что не рас- кроет источник ее получения. Показав ему составленное ФБР досье доктора Эллсберга, я спросил: «Хотите узнать, что собой представ-
Г Л А В А 2
ляет человек, пытающийся навредить Никсону и нашей внешней по- литике? — Тогда прочтите вот это».
Я был уверен, что воровство документов было со стороны Эллс- берга преступлением, но ни на мгновение не задавался вопросом о правомочности собственных попыток остановить его. Только позже я осознал, что, передав репортеру досье Эллсберга, совершил пре- ступление, но в тот момент я этого не понимал. Мне казалось, что
«тихий голос совести», который обычно удерживает нас от наихуд- ших поступков, даже подбадривает меня. Я считал, что поступаю со- вершенно правильно, и даже идеализировал свои действия. В конце концов, я ведь служил делу мира и безопасности.
Хочу особо подчеркнуть, что за время пребывания в Белом доме я никогда не совершал ничего, что считал в тот момент проти- возаконным. Я ни за что сознательно не рискнул бы своей адвокат- ской лицензией, на получение которой потратил столько сил. Я мог приблизиться вплотную к черте дозволенного, но, почувствовав, что еще немного — и переступлю ее (а таких случаев было немало), сразу же делал шаг назад. Передача газетам материалов о человеке, украв- шем секретные документы, не казалась мне чем-то противозаконным. (На самом деле, это и не было нарушением закона до того момента, когда я признал свою вину. Прокурор сказал, что мое дело создало судебный прецедент.) Однако тот репортер не имел необходимого государственного допуска на работу с подобными документами — факт, который я сознательно проигнорировал. Кроме того, позже я признал, что попытка нарушить права обвиняемого в суде создавала помехи в отправлении правосудия.
Меня погубила слепая уверенность в собственной правоте — и позже мы еще поговорим об этом подробнее. Я думал, что возвел во- круг своих действий настолько прочную нравственную ограду, что для меня невозможно совершить тяжкий моральный проступок, не говоря уже о преступлении. Моя внутренняя защита от нравственных и юридических ошибок уверяла меня, что я не могу быть неправ, даже когда я совершал уголовное правонарушение. Едва задумавшись об этом, я на глубочайшем уровне осознал, что изменил собственным принципам, но в тот момент я просто заблокировал все посылаемые мне совестью предупреждающие сигналы безоговорочной уверен- ностью в собственной невиновности.
По иронии, репортер «Детройт Ньюс» так и не опубликовал предоставленные ему материалы, но зато это сделало издательство
«Коупли Пресс», получив аналогичную информацию от кого-то из ФБР.
Я настоял на том, чтобы президент одобрил уголовное пресле- дование Эллсберга, рекомендованное Министерством юстиции, и
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
28 июня 1971 года (через две недели после первой публикации в
«Нью-Йорк Таймс») ему было выдвинуто обвинение в незаконном завладении секретными документами государственного значения. Од- нако, из-за неправильного поведения представителей властей (вклю- чая меня) в апреле 1973 года дело было закрыто.
Дело Эллсберга (в том числе незаконное проникновение «сан- техников» в кабинет его психиатра для получения конфиденциальной врачебной информации) стало центральным элементом ужасного скандала, известного как «Уотергейт». Он разразился в июне 1972 года после того, как кто-то из тех же «сантехников» тайно про- ник в штаб-квартиру Национального комитета демократической пар- тии. В результате ФБР и федеральная прокуратора немедленно начали расследование этого инцидента.
Я о проникновении ничего не знал, и обвинители на первых слу- шаниях дела признали мою непричастность. Но реальная суть Уотер- гейтского скандала заключалась в укрывательстве — в попытках защитить президента и его администрацию. Поначалу мы принимали довольно сдержанные меры, чтобы сбить прокуратуру со следа, но в течение нескольких месяцев наши усилия переросли в полномасштаб- ное укрывательство. В результате, весной 1974 года тем из нас, кто оказывал наиболее активную помощь президенту, были выдвинуты обвинения.
В мае 1974-го я согласился с тем, что действительно виновен во вмешательстве в дело Эллсберга, хотя ранее отклонил предложение о смягчении приговора в обмен на свидетельские показания против Никсона. Посоветовавшись с ближайшими друзьями, я решил при- знать свою вину по одному пункту обвинения (создание помех пра- восудию) и был приговорен к трем годам лишения свободы.
Я признал, что разработал «схему получения компрометирую- щей информации о Даниэле Эллсберге, дабы очернить и разрушить его общественную репутацию и авторитет … а также повлиять на проведение и результаты расследования по делу Эллсберга, создавая для него помехи и препятствия».
Глубоко проанализировав свои действия, я пришел к заключе- нию о справедливости этого обвинения и собственноручно составил его формулировку. Попытавшись опубликовать компрометирующую информацию о личных качествах Даниэля Эллсберга (что мне почти удалось), я надеялся лишить его возможности справедливого суда. Как юрист, я должен был понимать, что, опорочив его в прессе, на- строю против него всю страну, а значит — и любой возможный со- став присяжных на суде. На меня самого ежедневно клеветали репортеры из «Вашингтон Пост» Вудворд и Бернстайн, и я знал, что это такое.
Г Л А В А 2
 |
Восьмого июля 1974 года мой друг Грэм Перселл отвез меня в обшарпанный отель в Балтиморе, где меня уже ожидали четверо во- оруженных судебных приставов, чтобы доставить в тюрьму. Подоб- ное место встречи было выбрано, дабы избежать присутствия прессы, но репортеры преследовали нас всю дорогу от самого моего дома в Маклине, штат Вирджиния. Я поцеловал на прощание мою жену Пэтти, после чего меня посадили в кузов полицейского фургона без опознавательных знаков и доставили в тюрьму на армейской базе в Форт-Холаберд.
 По пути туда я не испытывал почти никаких эмоций. Я был пол- ностью опустошен. У меня был тяжело болен отец (он умер через месяц), а Пэтти осталась один на один с огромной горой обязанностей. По мне проехались катком в национальной прессе, и в какой-то мере я чувствовал облегчение от того, что этот кошмар хотя бы отчасти за- вершен. И еще, как ни странно, я не испытывал страха. Я даже помню, что в тот день по пути в Балтимор размышлял о том, почему мне не страшно, хотя знал, что жизни высокопо-
По пути туда я не испытывал почти никаких эмоций. Я был пол- ностью опустошен. У меня был тяжело болен отец (он умер через месяц), а Пэтти осталась один на один с огромной горой обязанностей. По мне проехались катком в национальной прессе, и в какой-то мере я чувствовал облегчение от того, что этот кошмар хотя бы отчасти за- вершен. И еще, как ни странно, я не испытывал страха. Я даже помню, что в тот день по пути в Балтимор размышлял о том, почему мне не страшно, хотя знал, что жизни высокопо-
ставленных должностных лиц в тюрьме за-
частую грозит опасность со стороны озлобившихся заключенных. Тем не менее, в день прибытия в Холаберд я чувствовал подобие покоя. Я знал, что должен пройти через это, и обязательно пройду. Как быв- шему морскому пехотинцу, жизнь в тюрьме не казалась мне чем-то непереносимым. Конечно, я очень досадовал, что оказался вдали от семьи, и, кроме того, я был серь- езно опозорен. Я не представлял, что ожи- дает меня в будущем, но был готов отбыть свой срок день за днем.
Форт-Холаберд напоминал город-
Cамым сокрушительным
в тюремном заключении была мысль о том, что отныне я уже никогда в жизни
 не смогу совершить что-либо значимое
не смогу совершить что-либо значимое
призрак. Окна его кирпичных домов и закопченных дощатых хибар были заколочены. Потрескавшиеся стены поросли бурьяном. По- среди этой заброшенной военной базы возвышался трехметровый забор из металлической сетки, поверх которой была протянута ко- лючая проволока. Внутри ограды находилось деревянное здание. Меня удивило, что пояс колючей проволоки наклонен наружу, как будто было важнее сдерживать не заключенных, а тех, кто находился вне тюрьмы. Вскоре я узнал — почему.
В Холаберде содержались важные свидетели, большинство из которых подвергались большой опасности, поскольку относились к
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
числу «свидетелей государственной важности»: мафиози, участвую- щие в федеральной программе защиты свидетелей, бывшие крими- нальные авторитеты, выторговавшие смягчение приговора в обмен на показания против своих боссов, и другие. Одним из обитателей Хо- лаберда был профессиональный киллер, убивший двадцать восемь че- ловек. Среди заключенных также находились участники известной наркоторговой сети «Французский связной», а также те, кто предо- ставил улики против судей. Я узнал, что большинство из содержа- щихся в Форт-Холаберде на свободе рискуют быстро расстаться с жизнью. Именно поэтому все охранники были вооружены до зубов, а колючая проволока наклонена наружу ограды. Было странно, что люди больше подвергались опасности за стенами тюрьмы, чем внутри нее.
Холаберду также предстояло стать пристанищем для всех ключевых фигур Уотергейтского скандала, дававших показания перед судом присяжных. Когда меня доставили в тюрьму, там пока что был только Герб Калмбах. Джона Дина и Джеба Магрудера привезли позже.
Тюремное здание разительно отличалось от шикарной обста- новки Белого дома. Краска на грязных стенах отслоилась, а трубы парового отопления тянулись просто вдоль длинного коридора, ко- торый проходил через центр строения и освещался только тусклыми лампочками, свисающими с потолка через каждые десять метров.
Надзиратель ввел меня в комнату досмотра, где у меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали на «Polaroid» и тщательно проверили личные вещи на предмет наличия наркотиков и контра- банды, после чего я заполнил несколько бесконечно длинных анкет. Наконец, завершив все процедуры, меня препоручили Джо — смуглому заключенному, едва говорившему по-английски. Он показал мне мою камеру: комнату размерами три на четыре метра, втиснутую под стреху крыши на втором этаже. Ее обстановка состояла из де- ревянной кровати, обшарпанного комода и маленького деревянного стола, испещренного надписями, оставленными несколькими поколе- ниями прежних обитателей — от юных армейских лейтенантов до за- ключенных федерального значения. Температура в комнате была под сорок градусов. В Балтиморе в тот момент как раз стояла жуткая
жара.
В ту ночь, лежа на кровати, я пытался не столько заснуть, сколько нормально дышать посреди знойной духоты. Мне не было страшно — по крайней мере, не физически. За время службы в мор- ской пехоте мне приходилось жить в самых разных условиях, и я все- гда отличался выносливостью. Меня не беспокоили мысли о будущем или о том, чем я буду зарабатывать на жизнь, когда выйду на свободу.
Г Л А В А 2
Я был уверен, что смогу найти неплохую работу в какой-нибудь част- ной компании или вернуть свою адвокатскую лицензию — по крайней мере, для некоторых областей юрисдикции. Конечно, меня тяготило осознание того, что следующие три года мне придется провести в по- добной обстановке, но наиболее болезненно я переживал разлуку с семьей и собственное чувство беспомощности.
Но самым сокрушительным в тюремном заключении была для меня мысль о том, что отныне я уже никогда в жизни не смогу со- вершить что-либо значимое. Я всегда был патриотом, и именно по- тому пошел добровольцем в морскую пехоту. Затем, движимый идеалистическими побуждениями, я занялся политикой. Я верил, что могу сделать что-то полезное для своей страны. Когда президент предложил мне стать его сотрудником, я охотно отказался от ше- стизначного годового дохода (в шестидесятые годы это была очень серьезная сумма), поскольку считал своим долгом служить миру, из- меняя его к лучшему. И вот, мое собственное правительство бросило меня в тюрьму, и это пятно будет сопровождать меня до конца моих дней. Я навсегда останусь бывшим заключенным. Мне были известны высоты власти, помогавшие формировать политический курс самой могущественной нации на земле, но в будущем мне было запрещено даже голосовать на выборах, не говоря уже о том, чтобы вернуться в политику, которую я очень любил. Все, о чем я мечтал, теперь было для меня навсегда потеряно.
Повесть моей жизни развалилась на части, и я не мог найти даже тень дальнейшего сюжета. Мое будущее выглядело пожизнен- ным заключением. Действительно, тогда я размышлял об успехе в ма- териальном смысле: власть, деньги, слава, уверенность в будущем… Но я также видел успех в том, чтобы совершать поступки, положи- тельно влияющие на жизнь людей. Как теперь я мог достичь всего этого, будучи навеки меченным, бывшим заключенным, опозоренным государственным деятелем?
 |
 |
Глава 3
Великие парадоксы
|
гейт». Тюрьма не только радикально пре-
образила мои взгляды на жизнь, но и  предоставила мне практическую возмож-
предоставила мне практическую возмож-
ность того, на что я уже не надеялся — по-настоящему служить другим. В моем случае это стало служение заключенным в разных уголках мира.
Мой пример ярко иллюстрирует тот
Cтрадания и поражения
 зачастую ведут к победе
зачастую ведут к победе
факт, что в самом сердце тайны под названием «жизнь» лежит сле- дующий парадокс. То, за что мы боремся, зачастую оказывается нам менее всего нужным. То, чего мы больше всего боимся, может ока- заться для нас величайшим благословением.
Гилберт Честертон определяет парадокс как «истину, постав- ленную на голову, чтобы привлечь внимание».1 Поиск счастливой жизни невозможен без столкновения с парадоксами, которые по- началу кажутся противоречивыми, но затем оказываются истиной.
Прежде, чем моя жизнь восстановилась, все мои прежние ожи- дания, несомненно, перевернулись с ног на голову. Именно так я об- наружил первый из великих жизненных парадоксов: страдания и поражения зачастую ведут к победе.
Выдающийся романист XIX века Федор Достоевский усвоил этот парадокс на своем неожиданном и драматичном опыте. Очаро- ванный французским утопическим социализмом, этот молодой рус- ский интеллектуал начал посещать собрания тайного кружка, который царь считал антиправительственным заговором. За это До-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
стоевский был приговорен к восьми годам каторги. Проведя некото- рое время под стражей, он узнал, что его приговор сменили на смерт- ную казнь через расстрел.
Унылым зимним днем Достоевского вместе с несколькими дру- гими заключенными провели по снегу и поставили перед расстрель- ной командой. Пока военный чиновник громко зачитывал смертные приговоры, священник по одному выводил осужденных вперед, пре- доставляя им возможность поцеловать крест, который держал в руке. Наконец, троих заключенных привязали к столбам, и Достоев- ский, наблюдавший за всем этим, осознал, что следующим будет он. Солдаты натянули осужденным на глаза колпаки, и Достоевский по- чувствовал, как его желудок сдавил спазм. Расстрельная команда
подняла ружья, прицелилась и замерла, готовая спустить курки.
Достоевский напряженно застыл. Ожидание, казалось, длилось целую вечность, как вдруг опять зазвучала барабанная дробь. Но это был сигнал отбоя! Ошеломленный Достоевский наблюдал за тем, как расстрельная команда опустила свои ружья, и солдаты сняли с осуж- денных колпаки. Их, включая и Достоевского, помиловали.2
Сразу же после случившегося Достоевский написал письмо своему брату о тех переменах, которые произвел в нем этот инци- дент: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром по- трачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменьи жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар… Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое».3
Близкая казнь и восемь ужасных лет в сибирской тюрьме пре- доставили Достоевскому уникальный дар: возможность взглянуть на жизнь, находясь у ее последней черты. Большинство из нас никогда не сможет так же, как он, понять, что на самом деле является самым важным. Этот взгляд стал его платформой для создания великолеп- ных романов, наполненных невероятными откровениями о человеке и борьбе добра и зла.
Романы Достоевского помогали сохранить огонек христианской веры в течение семидесяти лет советских репрессий. Александр Солже- ницын — диссидент, книги которого, удостоенные Нобелевской премии, вскрыли ужасы советского ГУЛАГа, — почерпнул многие из своих идей именно из трудов Достоевского. Благодаря Солженицыну и другим диссидентам, высоко ценившим произведения Достоевского, страдания последнего оказали непрямое, но сильное влияние на процесс сверже- ния советского режима. Страдания и поражения ведут к победе.
Г Л А В А 3
Этот парадокс также проявился в XX веке в жизни одного аме- риканца с Уолл-Стрит. В «бурные двадцатые» Уильям Уилсон ско- лотил себе состояние как биржевой аналитик. Он был одним из первых, кто начал заниматься персональной аналитикой для компа- ний, колеся по восточному побережью США на мотоцикле с коля- ской, в которой сидела его жена. Оказавшись на грани разорения, Уилсон купил пару акций таких компаний как «General Electric» и
«Alcoa», — достаточно, чтобы, представляясь владельцем акций, рас- считывать на обязательное в таких случаях внимание руководства компаний.4 Знаменитые биржевики Фрэнк Шо и Джо Хиршхорн, вы- соко оценив отчеты Уилсона, начали за них щедро платить и одал- живать ему деньги, чтобы он мог и сам покупать акции тех компаний, которые рекомендовал им.
Вскоре Уилсон и его жена купили две смежные квартиры в пре- стижном районе Бруклина и, выбив общие стены, создали шикарные апартаменты. Однако у Билла Уилсона была одна пагубная привычка: он слишком много пил. Из-за этого пристрастия он скоро лишился всего, что имел, и глубоко увяз в долгах. Дошло до того, что его нью- йоркский врач предупредил Уилсона, что если тот не бросит пить, то скоро умрет.
Полагая, что разбирается лучше врача, Билл Уилсон не оставил свою пагубную привычку и трижды попадал в больницу прежде, чем, наконец, воззвал о помощи. «Если Бог есть, то пусть Он сейчас явит Свою силу!»5
Чувство покоя и облегчения, пережитое Биллом Уилсоном, как только он воззвал к Богу, даровали ему силы навсегда покончить с пьянством. Вместе с доктором Робертом Смитом («Доктором Бобом») он основал сообщество «Ано-
нимные алкоголики», принципы которого 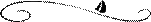
содержат парадоксальную идею о том, что
«достижение дна» является основанием для новой жизни. Благодаря работе «Ано- нимных алкоголиков» миллионы мужчин и женщин по всему миру теперь знают, что поражения и страдания порождают по-
Нужно потерять свою
 жизнь, чтобы ее сберечь
жизнь, чтобы ее сберечь
беду. Это не подразумевает какой-то перевернутой системы ценно- стей, когда мы должны потакать своим личным недостаткам, дабы из этого получилось что-то хорошее.
Многие люди могли бы рассказать о преобразивших их пере- живаниях, не имеющих ничего общего с саморазрушающим поведе- нием. Прежде, чем выйти замуж за бывшего участника группы «The Beatles» Пола Маккартни, Хэзер Миллс была одной из британских супермоделей. Во время поездки на лыжный курорт в бывшую Юго-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
славию она стала свидетелем первы






