Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна
с его вещественным значением. Поэтому на вопрос, «должна ли известная грамматическая форма выражаться особым звуком», можно
ответить другим вопросом: всегда ли создание нового вещественного
значения слова при помощи прежнего влечет за собою изменение звуковой формы этого последнего? И наоборот: может ли одно изменение
звука свидетельствовать о присутствии новой грамматической фор
мы, нового вещественного значения? Конечно, нет. Выше мы нашли
многозначность слов понятием ложным: где два значения, там два
слова. Последовательно могут образоваться «одно из другого десятки вещественных значений при совершенной неизменности звуковой формы.
То же следует сказать о грамматических формах: звуки, служившие для обозначения первой формы, могут не изменяться и при образовании последующих. При этом может случиться, что эти последние собственно для себя в данном слове не будут иметь никакого звукового обозначения1. Так, например, в глаголе различаем совершенность и несовершенность. Господство этих категорий в современном русском языке столь всеобще, что нет ни одного глагола, который бы не относился к одной из них. Но появление этих категорий не обозначилось никаким изменением прежних звуков: даты, и даяти имели ту же звуковую форму и до того времени, когда первое стало совершенным, а второе несовершенным. Есть значительное число случаев, когда глаголы совершенный и несовершенный по внешности ничем не различаются: женить, настоящее женю (несов.), и женить, будущее женю (соверш.), суть два глагола, раз-личные по грамматической форме, которая в них самих, отдельно
 1 Высказываемый здесь взгляд отличен от обычного. Ср., например, слова проф. Ягича: «Я могу во всяком синтаксисе найти примеры, что одна и та же форма в разных отношениях получает различные значения, но еще никому не приходило в голову сказать, что это не одна форма, а две, три и т. д.».
1 Высказываемый здесь взгляд отличен от обычного. Ср., например, слова проф. Ягича: «Я могу во всяком синтаксисе найти примеры, что одна и та же форма в разных отношениях получает различные значения, но еще никому не приходило в голову сказать, что это не одна форма, а две, три и т. д.».
140
взятых, не выражена ничем, так как характерны сохраняет в них свою прежнюю функцию, не имеющую отношения к совершенности и несовершенности.
Вещественное и формальное значение данного слова составляют, как выше сказано, один акт мысли. Именно потому, что слово формальных языков представляется сознанию одним целым, язык столь мало дорожит его стихиями, первоначально самостоятельными, что позволяет им разрушаться и даже исчезать бесследно. Разрушение эти обыкновенно в арийских языках начинается с конца слова, где преимущественно сосредоточены формальные элементы. Но лит.. garsas осталось при том же значении сущ. им. ед. м. р. и после того, как, отбросивши окончание им. ед., стало русским голос. Вот еще пример в том же роде. Во время единства славянского и латышско-литовского языка в именах мужеских явственно отличался именительный падеж от винительного: в единствен, числе имен с темою на -а первый имел форму а-с, второй а-м. По отделении слав. языка, но еще до заметного разделения его на наречия, на месте обоих этих окончаний стало ъ, и тем самым в отдельном слове потерялось внешнее различие между именительным и винительным. Но это нисколько не значит, что в сознании исчезла разница между падежом субъекта и падежом прямого объекта. Многое убеждает в том, что мужеский род более благоприятен строгому разграничению этих категорий, чем женский, единственное число — более, чем множественное. Между тем в то время, когда в звуковом отношении смешались между собою падежи имен. и винит, ед. муж., они явственно различались во множ, того же рода, а в женском ед. различаются и поныне. В некоторой части самих имен муж. рода, мешавших звуковую форму именительного и винительного ед. ч., язык впоследствии опять и внешним образом различил эти падежи, придавши винительному окончание родительного. Таким образом, вместо представления всякого объекта, стоящего в винительном, безусловно страдательным (как и в лат. Deus creavit m u n d u m pater amat f i 1 i u m), возникло две степени страдательности, смотря по неодушевленности или одушевленности объекта, бог создал свет, отец любит сына. Однозвучность именит, и винит, (свет создан и б. создал свет), винит, и род. (Отец любит сына, отец не любит сына) не повлекла за собою смешения этих форм в смысле значений1. В этом сказалось создание новой категории одушевленности и неодушевленности, но вместе с тем и то, что до самого этого, времени разница между именит, и винит, ед. муж. р. не исчезала из народного сознания.
 1 Во избежание неясности, следует разделить вопросы о первообразности или производности значения суффикса и о качестве наличной формы. Говорят; «род. мн. в слав., как и в других арийских, резко отделен от прочих падежей, между тем как в двойств. ч. род. и местный совпадают по форме, и нельзя наверное решить, имеем ли дело с настоящим родительным, или с местным» (Mikl. V. Gr., lV, 447). Этого нельзя решить, рассматривая падеж как отвлечение; но в конкретном случае ясно, что руку в «въздьяню» руку моюю» есть родит., а в «на руку моюю» есть местный.
1 Во избежание неясности, следует разделить вопросы о первообразности или производности значения суффикса и о качестве наличной формы. Говорят; «род. мн. в слав., как и в других арийских, резко отделен от прочих падежей, между тем как в двойств. ч. род. и местный совпадают по форме, и нельзя наверное решить, имеем ли дело с настоящим родительным, или с местным» (Mikl. V. Gr., lV, 447). Этого нельзя решить, рассматривая падеж как отвлечение; но в конкретном случае ясно, что руку в «въздьяню» руку моюю» есть родит., а в «на руку моюю» есть местный.
141
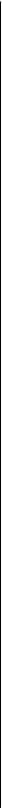 В литовском за немногими исключениями, а в латышском за исключением it (идет, идут) суффикс 3-го лица в настоящем и прошедшем потерян. То же и в некоторых слав. наречиях; но в латышско-литовском 3-е лицо ед., кроме того, никаким звуком не отличается от 3-го лица множ. Оставляя в стороне вопрос, точно Ля в этих языках потеряно сознание различия между числами в 3-м лице, можем утвердительно сказать, что сама категория 3-го лица в них не-потеряна, ибо эти лицо, при всем внешнем искажении, отличается от. 1-го и:2-го как един., так и множ. чисел.
В литовском за немногими исключениями, а в латышском за исключением it (идет, идут) суффикс 3-го лица в настоящем и прошедшем потерян. То же и в некоторых слав. наречиях; но в латышско-литовском 3-е лицо ед., кроме того, никаким звуком не отличается от 3-го лица множ. Оставляя в стороне вопрос, точно Ля в этих языках потеряно сознание различия между числами в 3-м лице, можем утвердительно сказать, что сама категория 3-го лица в них не-потеряна, ибо эти лицо, при всем внешнем искажении, отличается от. 1-го и:2-го как един., так и множ. чисел.
В формальных языках есть случаи,, когда звуки, указывающие на вещественное значение слова, являются совершенно обнаженными с конца. Так, напр., в болг. «насилом можеше ми зе (букв=въз-А), по неможеше ми да». Странно было бы думать, что зе, да суть корни, в смысле слов, не имеющих ни внешних, ни внутренних грамматических определений. Это не остатки незапамятной старины, а произведения относительно недавнего времени. Немыслимо, чтобы» язык, оставаясь постоянно орудием усложнения мысли, мог при каких, бы то ни было прочих условиях в какой-либо из своих частей возвратиться к первобытной простоте. Зе и да могут быть корнями по отношению к возможным производным словам, но независимо от этого это настоящие инфинитивы, несмотря на отсутствие суффикса -ти. Во всяком случае это слова с совершенно определенною грамматическою функциею в предложении..
К этому прибавим, что и звуки, носящие вещественное значение слов, могут исчезнуть без ущерба для самого этого значения. Так в вр. подь, поди потерялось и, от которого именно и зависит первоначальное значение ити. В польск. wež (возьми) от им (основная форма — jam) осталась только нёбность конечной согласной предлога; нёбность эта могла, впрочем, произойти и от окончания nовелительного.
Если в данном слове каждому из элементов значения и соответствует известный звук или сочетание звуков, то между звуком и значением в действительности не бывает другой связи кроме традиционной. Так, напр., когда в долготе окончания именит.-ед. ж. р. а находят нечто женственное, то это есть лишь произвольнее признание целесообразности в факте, который сам по себе непонятен. Если бы женский род в действительности обозначался кратким а, а мужеский и средний—долгим, то толкователь с таким же основанием мог бы в кратком -а видеть женственность. В известных случаях это самое женское -а может стать отличием сущ. м. р.: мр. сей собака и сущ, сложные, как пали — вода, болг. нехрани — майка (дурной сын, не кормящий матери). Эти последние суть сущ. м. р., хотя первая их половина не есть существительное, а вторая— существительное женское. Без сомнения, предание основано на первоначальном соответствии звука и душевного движения в звуке, предшествую-щем слову; но основание это остается неизвестным, а если бы и было известно, то само по себе не могло бы объяснить позднейшего значения звука. Таким образом, для нас в слове все зависит от упот-
142
ребления (Буслаев, Грам., § 7). Употребление включает в себя. исоздание слова, так как. создание есть лишь первый случай употребления.
После этого спрашивается, как возможно, что значение, все равно вещественное или формальное, возникает и сохраняется в течение веков при столь слабой поддержке со стороны звука? В одном слове это и невозможно, но одного изолированного слова в действительности и не бывает. В ней есть только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, потому что их не имеет (Н u m b, -Uber Verschied, 207; S t e i n t h, Charakteristik, 318—19, Буслаев, Грам., § 1). Слово конь вне связи не есть ни именительный, ни винительный ед., ни родительный множ, строго говоря, это даже вовсе ' не слово, а пустой звук; но в «къде есть конь мой?» это есть именительный; в «помяну конь свой», «повеле оседлати конь» —это винительный; в «отбегоша конь своих» —родительный множественного. Речь в вышеупомянутом смысле вовсе не тождественна, с простым или сложным предложением. С другой стороны, она не есть непременно «ряд соединенных предложений» (Буслаев, Гр1., § 1),_потому что может быть и одним предложением. Она есть такое сочетание слов, из которого видно, и то, как увидим, лишь до некоторой степени, значение входящих в него элементов. Таким образом, «хочю ити» в стар.-русском не есть еще речь, так как не показывает, есть ли «хочю» вещественное слово, (volo) или чисто формальное обозначение будущего времени. Итак, что такое речь — это может быть определено Только для каждого случая отдельно.
Исследователь обязан соображаться с упомянутым свойством языка. Для полного объяснения он должен брать не искусственный препарат, а настоящее живое слово. Нарушение этого правила видим в том» когда посылкою заключения о функции слова служит, не действительное слово с одним значением в вышеопределенном смысле, а отвлечение, как, напр., в следующем: «Русская форма знай получает в речи смысл желательный, или повелительный, или, наконец, условный»... «Из и с т и н н о г о (!) понимания грамматического значения формы как формы мы легко могли объяснить и те частные значения, которые она может иметь в живой речи, мы поняли настоящий смысл и объем его употребления в языке. Теперь спрашивается: имеем ли мы право назвать его формою повелительного наклонения, или желательного, или условного? Ровно никакого. Это значило бы отказаться от понимания существенного грамматического ее значения и ограничить ее разнообразное употребление в речи одним каким-либо случайным значением. И в самом деле: на каком основании эту форму мы назвали бы наклонением повелительным, когда ею же выражается в языке и желание и условие? Почему не назвать бы ее желательным наклонением? Почему не назвать б ы ее также наклонением условным? Мы не можем согласиться с мнением тех ученых, которые утверждают, что этою
143
«общею личною формою глагола» (в этом ее сущность, по мнению
автора приводимых строк) выражается повеление, а желание и
условие — так себе, как оттенки повеления. Да почему же повеление и желание не могут быть оттенками условия?» (Н. Не к р а-
с о в, О значении форм русского глагола, 106). Здесь истинным пониманием формы считается не понимание ее в речи, где она имеет
каждый раз одно значение, т. е. говоря точнее, каждый раз есть другая форма, а понимание экстракта, сделанного из нескольких раз
личных форм. Как такой препарат, «знай» оказывается не формою
известного лица и наклонения, а «общею личною формою». Такое
отвлечение, а равно и вышеупомянутое общее значение корней
вообще «общее значение слов», как формальное, так ивещественное, есть только создание личной мысли и действительно существовать в языке не может. Языкознание не нуждается в этих «общих» значениях. В одном ряду генетически связанных между собою
значений, напр, в знай повелительном и условном, мы можем видеть только частности, находящиеся в известных отношениях одна
к другой. Общее в языкознании важно и объективно только как
результат сравнения не отдельных значений, а рядов значений,
причем этим общим бывают не сами значения, а их отношения.
В этих случаях языкознание доводит до сознания те аналогии, которым следует бессознательно творчество языка. Напр., когда говорим, что подобен в значении «приличен», «красив» аналогично
с пригож, то мы не утверждаем ни того, что по—при или доба—год,
не выводим общего из значений этих слов, а, признавая эти слова
различными величинами и не пытаясь добыть из них среднее число,
поступаем по формуле а: в=с: d, т. е. уравниваем не значения,
а способ их перехода в другие.
Но вышеупомянутому автору в знай кажется существенным только то, что есть его личное мнение, именно что это «общая личная форма». Конечно, можно бы и не говорить об этом заблуждении, если бы для нас оно не представляло опасности и в настоящее время. Мы не можем сказать, как Г. Курциус: «Никто не станет теперь, как пятьдесят лет тому назад, выводить употребление падежа или наклонения из основного понятия, получаемого отчасти философским путем, посредством применения категорий. Теперь вряд ли кто-либо упустит из виду то, что подобные основные понятия суть лишь формулы, добытые посредством отвлечения из совокупности оттенков употребления».
Г. Некрасов думает, что вышеупомянутое отвлечение есть субстанция, из которой вытекают акциденциальные частные, т. е., по-нашему, единственные действительные значения, и что, отказываясь от такой выдумки, он потеряет связь между этими частными "значениями и должен будет ограничиться одним из них, отбросивши все остальные. Действительно невозможно представить себе, что так называемые частные значения сидят в звуке вместе и в одно время что конь есть вместе и именит, и винит., что знай есть повелительное и в то же время условное. Но стараться понимать
144
«форму как форму», т. е. саму по себе, значит создавать небывалые в действительности и непреодолимые затруднения. Слово в каждый момент своей жизни есть один акт мысли. Его единство в формальных языках не нарушается тем, что оно относится разом к нескольким категориям, напр, лица, времени, наклонения. Невозможно совмещение в одном приеме мысли лишь двух взаимно исключающих себя категорий. Слово не может стоять в повелительном наклонении и в то же время в условном, но оно может стать условным и тогда станет другим словом. Одно и то же слово не может быть в то же время наречием и союзом, и если говорят, что разница между этими словами состоит лишь в синтаксическом значении (Mikl, Vergl. Gr. IV, 151), то это л и ш ь только по-видимому мало, а в сущности заключает в себе все различие, какое может существовать между словами в формальном отношении.
Различные невыдуманные значения однозвучных слов того же семейства относятся друг к другу не как общее и существенное к частному и случайному, а как равно частные и равно существенные предыдущие и последующие. Жизнь слов, генетически связанных между собою, можно представить себе в виде родословного дерева, в коем отец не есть субстанция, а сын не акциденс, в коем нет такого средоточия, от разъяснения которого зависело бы все. Без предыдущего слова не могло быть последующего, которое, однако, из одного предыдущего никаким средством выведено быть не может, потому что оно не есть преобразование готовой математической формулы, а нечто совершенно новое.
| 145 |
Если не захотим придать слову речь слишком широкого значения языка, то должны будем сказать, что и речи, в значении известной совокупности предложений, недостаточно для понимания входящего в нее слова. Речь в свою очередь существует лишь как часть большого целого, именно языка. Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, «за порогом сознания», не освещаясь полным его светом. Употребляя именную или глагольную форму, я не перебираю всех форм, составляющих склонение или спряжение; но тем не менее данная форма имеет для меня смысл по месту, которое она занимает в склонении или спряжении (Humb., Ob, Versch., 261). Это есть требование практического знания языка, которое, как известно, совместимо с полным почти отсутствием знания научного. Говорящий может не давать себе отчета в том, что есть в его языке склонение, и, однако, склонение в нем действительно существует в виде более тесной ассоциации известных форм между собою, чем с другими формами. Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке. Напр., в русском литературном языке творит, п. ед. находится в равномерной связи с другими падежами того же склонения и, в частности, не стремится вызвать в сознание ни одного из них, так как явственно отличается от всех их и в зву-
6 В. А. Звегинцев
ковом отношении. Но в латышском этот падеж не имеет особого окончания и совпадает в единствен, числе с винительным (greku, грех, грехов), а в множ, с дательн. (grekim, грехам, грехами). Было бы ошибочно думать, что этот язык вовсе не имеет категории творительного или, точнее говоря, группы категорий, обозначаемых именем творительного. Вследствие звукового смешения творительного с винительным в единственном, говорящий был бы наклонен смешивать в одну группу категории творительного и винительного; но бессознательно справляясь со множественным числом, под звуковою формою винительного множественного он не находит значений, которые мы обозначаем именем творительного, и отыскивает эти значения под звуковою формою дательного множ. ч. Таким образом, в говорящем по-латышски особенность категории творительного поддерживается посредством более тесной ассоциации между единственным и множественным числом, чем в русском.— Когда говорю: «я кончил», то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма «кончал», имеющая значение несовершенное. То же и наоборот. Случаи, в которых совершенность и несовершенность приурочены к двум различным звуковым формам, поддерживают в говорящем наклонность различать эти значения и там, где они не разлучены звуками. Следовательно, говоря «женю» в значении ли совершенном, или не совершенном, я нахожусь под влиянием рядов явлений, образцами коих могут служить кончаю и кончу. Чем совершенней становятся средства наблюдения, тем более убеждаемся, что связь между отдельными явлениями языка гораздо теснее, чем кажется. В каждый момент речи наша самодеятельность направляется всею массою прежде созданного языка, причем, конечно, существует разница в степени влияния одних явлений на другие. Так, говоря «кончил» и «кончал», я заметным образом не подчиняюсь действию того отношения между коньчити и коньчати в стар.-русском, которое сказывается в том, что не только аорист коньчах, коньчаша, но и коньчати, коньчав и пр. мы принуждены переводить нашими совершенными формами: окончил, окончить, окончивши.
Грамматика и логика
Следующее рассуждение довольно характеристично для направления, и ныне имеющего многих последователей преимущественно между теми из представителей языкознания, которые не столько сами изучают язык, сколько учат ему в школах. На вопрос: «Есть ли именительный падеж единственная форма логико-грамматического подлежащего?» — отвечают: «В предложениях: «Паллада любит Улисса», «я не сплю по ночам», «у меня есть книги» — именительные падежи говорят о том же лице или предмете, о котором творительный в «Палладою любим Улисс», дательный в «мне не спится по ночам», родительный в «у меня нет книг». Именительные
146
в первых трех предложениях суть подлежащие. Им приписываются те же сказуемые, что и так называемым косвенным падежам в трех остальных. Следовательно, эти косвенные падежи Палладою, мне, книг суть тоже подлежащие, ибо две величины, порознь равные третьей, равны между собой1. Это все равно, как если бы сказать: вот палец счетом один, а вот свечка тоже одна, следовательно, что палец, что свечка — все едино. Как здесь мы узнаем не то, что такое палец и что свечка, а то, что разные вещи можно считать за единицу, которая всегда равна себе, так и там в лучшем случае мы узнаем только то, что для логики словесное выражение примеров ее построений безразлично. Если же цель теоретического изучения языка именно и состоит в сознании функций различных падежей и т. п., то для такого изучения «логико-грамматическое» подлежащее и тому подобное в свою очередь безразлично, так как существование этих вещей возможно только вне языка.
Изумительно, что автор вышеприведенного' рассуждения тут же говорит: «Различие между грамматикой и логикой, давно сознаваемое многими, окончательно доказано лет 15 тому назад, как всем известно, Штейнталем в его «Grammatik, Logik und Psycholgie», Befl., 1855. В этой книге Штейнталь именно и доказал, что понятия, каково «логико-грамматическое подлежащее», заключают в себе разрушительные для себя противоречия, логически немыслимы.
Ссылаясь на ту же книгу Штейнталя, я не буду останавливаться на рассматриваемом в ней вопросе об отношении логики к грамматике и ограничусь лишь следующими положениями.
Слово не одним присутствием звуковой формы, но всем своим содержанием отлично от понятия и не может быть его эквивалентом или выражением уже потому, что в ходе развития мысли предшествует понятию.
Грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Названия двух членов последнего (подлежащее и сказуемое) одинаковы с названиями двух из членов предложения, но значения этих названий в грамматике и логике различны. Термины «подлежащее», «сказуемое» добыты из наблюдения над словесным предложением и в нем друг другом незаменимы. Между тем для логики в суждении существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий, а которое из них будет названо субъектом, которое предикатом,— это для нее, вопреки существующему мнению, должно быть безразлично, ибо в формально-логическом отношении, независимо от способа возникновения и словесного выражения, все равно, скажем ли лошадь — животное, лошадь не собака или животное включает лошадь (в числе животных есть лошадь), собака не лошадь. Катего-
 1 Рассуждение это нисколько не оправдывается тем, что в его пользу можно привести весьма сильные авторитеты, например Гримма, у которого тоже подлежащее есть или прямой падеж, или косвенный, причем в действительном обороте косвенный зависит от прямого, а в страдательном наоборот (D. Gr. IV, 1).
1 Рассуждение это нисколько не оправдывается тем, что в его пользу можно привести весьма сильные авторитеты, например Гримма, у которого тоже подлежащее есть или прямой падеж, или косвенный, причем в действительном обороте косвенный зависит от прямого, а в страдательном наоборот (D. Gr. IV, 1).
а* 147
рии предмета и его признака не нужны для логики, для которой то и другое-—только понятия, совокупности признаков. Тем менее возможно вывести из логического суждения прочие члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение.
Совершенное, т. е. вполне согласное с требованиями языка, предложение может соответствовать не логическому суждению, а только одному понятию, содержание коего, конечно, разложимо в суждение. Например, на известной ступени развития языка, т. е. понимания, гремит означает действие без действователя: гром (в смысле действия) происходит, но экзистенциальность в обширном смысле, т. е. существование вне нас или только в нашей мысли, есть признак, входящий во всякое понятие; суждение «понятие х существует» тавтологично и в этом смысле вовсе, не есть логическое суждение, так как не требует никакой логической поверки.
С другой стороны, простое предложение может соответствовать более чем одному логическому суждению. Не только каждая пара членов предложения (подлежащее и сказуемое; подлежащее и определение; сказуемое и обстоятельство, сказуемое и дополнение) может соответствовать суждению, но и один член предложения может соответствовать одному и более чем одному суждению, притом не только в составных словах (укр. пiч кур — истопник, человек, «курящий» печи; дривiтня — место, где «тнут», рубят дрова), но и в простых: укр. и старорусск. (Ипатьевская летопись) — голубити, ласкать другого, как милуются голуби.
Грамматических категорий несравненно больше, чем логических. Поэтому недостаточное отвлечение логического содержания мысли от словесного выражения обнаруживается внесением в До-гику категорий, вовсе не нужных для ее целей, например связки, некоторых делений суждения. Наоборот, подчинение грамматики логике сказывается всегда в смешении и отождествлении таких явлений языка, которые окажутся различными, если приступить к наблюдению с одной предвзятой мыслью о том, что априорность в наблюдательных науках, каково языкознание, весьма опасна.
Логическая грамматика не может постигнуть мысли, составляющей основу современного языкознания и добытой наблюдением, именно что языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов. Индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической грамматике, потому что логические категории, навязываемые ею языку, народных различий не имеют.
Многие до сих пор держатся того мнения, что логика есть нечто вроде естественной истории мышления, что она рассматривает всякие явления мысли по крайней мере со стороны их формы, но в то же время не могут не признать, что можно мыслить весьма деятельно и нелогично, из чего следует, что логика рассматривает такое свойство мысли, которого в мысли может и не быть. Между тем в этом последнем наблюдении даны пределы логики,
переходя которые она перестает быть сама собою. Совершенствование наук выражается в их разграничении относительно цели и средств, а не в их смешении, в их взаимодействии, а не в рабском служении другим. Логика может быть самостоятельна только в том случае, если ее задача будет поставлена лишь в изыскании условий логической истины, которая есть лишь одна из сторон полной истины, доступной в данное время. Логика должна спрашивать лишь о том, не заключает ли данная мысль противоречий независимо от новых наблюдений, которыми она может быть подтверждена или опровергнута. Иначе: мыслима ли мысль сама в себе? Например, суждения: «некоторые корни растут вверх (или горизонтально)», «корни имеют лиственные почки» — истинны с логической точки, если под корнем разумеется вообще подземная часть растения. Логика не может дать никакого руководства к другой поверке этих суждений. Но как скоро независимо от логики составлено иное понятие о корне, как о нисходящей оси растения, то и логика найдет, что вышеприведенные суждения ложны, что корень не может расти вверх, не может иметь лиственных почек, иначе он не корень. Здесь видно, что логическая и грамматическая правильность совершенно различны, так как последняя возможна и без первой, и наоборот, грамматически неправильное выражение, насколько оно понятно, может быть правильно в логическом отношении. В этом заключены две существенные черты логики. Во-первых, она есть наука гипотетическая. Она говорит: если дана мысль, то отношения между ее элементами должны быть такие-то, а в противном случае мысль нелогична. Но логика не говорит, каким путем мы дошли до данной мысли, т. е. она не есть наука генетическая, какова психология. Например, в суждении логика не рассматривает процесса сказывания, а со своей односторонней точки зрения оценивает результаты совершившегося процесса. Напротив, языкознание принадлежит к числу наук исторических.
Во-вторых, логика есть наиболее формальная из наук. Она судит о. всякой мысли, относящейся к какой бы то ни было области знания, так как всякая мысль допускает одностороннюю логическую поверку: согласие или несогласие с требованиями тождества мысли с самой собою. Язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается. Поэтому формальность языкознания вещественна сравнительно с формальностью логики. Языкознание, в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук.
Сказанное имеет целью указать на путь, по которому нельзя дойти до верного определения основных понятий языкознания, который не ведет к объяснению явлений языка.
 Г. ОСТГОФ и К. БРУГМАН
Г. ОСТГОФ и К. БРУГМАН
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ
«МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ» 1
Со времени появления книги Шерера «К истории немецкого языка» (Берлин, 1868)* и во многом под влиянием этой книги облик сравнительного языкознания значительно изменился. С тех пор, пробил себе дорогу и приобретает все большее число последователей метод исследования, существенно отличающийся от того метода, который использовался сравнительной грамматикой в первые полстолетия ее существования.
Никто не может отрицать, что прежнее языкознание подходило к объекту своего исследования — индоевропейским языкам, не составив себе предварительно ясного представления о том, как живет и развивается человеческий язык вообще, какие факторы действуют при речевой деятельности и как совместное действие этих факторов влияет на дальнейшее развитие и преобразование языкового материала. С исключительным рвением исследовали языки, но слишком мало — говорящего человека. Механизм человеческой речи имеет две стороны: психическую и физическую. Главная цель ученого, занимающегося сравнительным изучением языков, — выяснить характер деятельности данного механизма. Ибо только на основе более точных знаний об устройстве и образе действия этого психофизическог о механиз ма ученый может составить себе представление о том, что вообще | возможно в языке (но только не в языке на бумаге, так как на бумаге можно сделать почти все), о том, каким образом исходящие из индивидов языковые новшества укореняются в языковом коллективе, вообще извлечь те методологические принципы, которыми он должен будет руководствоваться во всех своих разысканиях в области истории языка. Чисто физической стороной речевого механизма занимается физиология звуков. Эта наука существует уже десятилетия, и ее достижениями пользовалось уже прежнее языкознание примерно с пятидесятых годов; в этом следует видеть большую его заслугу.
 1 Н. О s t h о f f und К. В r u g m a n Morphologische Untersuchungen,
1 Н. О s t h о f f und К. В r u g m a n Morphologische Untersuchungen,
Erster Theil, Leipzig, 1878.
2 В. Ш e p e p (1841—1886) — немецкий филолог, наиболее известный упоминающейся здесь книгой. (Примечание составителя.)
Но данных одной физиологии звуков отнюдь не достаточно, когда хотят составить себе ясное представление о речевой деятельности человека и о новшествах в форме, производимых человеком при говорении. Даже самые обычные изменения звуков, как, например, переход nb в mb, bn в mn или перестановка аг — га, непонятны, если рассматривать их только с точки зрения физиологии звуков/Необходимо привлечь еще одну науку, которая располагает обширным материалом наблюдений над характером функционирования психических факторов, действующих при бесчисленных звуковых изменениях и при всех так называемых образованиях по аналогии, науку, основные черты которой впервые наметил Штейнталь в своей работе «Ассимиляция и аттракция с точки зрения психологии» (Zeitschrift fur Volkerpsychdlogie, I, 93—179) и на которую языкознание и физиология звуков до сих пор обращали мало внимания. В примечании 1 на странице 82 настоящей книги один из авторов, опираясь на эту работу Штейн-тал я, попытается подробно показать, как важно иметь ясное представление о том, в какой степени звуковые инновации, с одной стороны, представляют собой явления чисто физическо-механического порядка и в какой степени они, с другой стороны, являются физическими образами психических явлений. Далее будут подробно рассмотрены влияние ассоциаций идей при речевой деятельности и новообразование языковых форм в результате формальных ассоциаций и будет сделана попытка развить относящиеся к ним методологические принципы. Прежнее сравнительное языкознание при всем том, что оно охотно использовало данные физиологии звуков, совершенно не обращало внимания на эту психическую сторону речевого процесса и вследствие этого впадало в бесчисленные заблуждения. Только в самое последнее время все больше и больше начинают осознавать это упущение. Некоторые основные ошибки, общие всему прежнему языкознанию и вытекавшие из непризнания того факта, что даже преобразования и новообразования, возникающие лишь во внешней языковой форме и касающиеся только звукового выражения мысли, в громадном большинстве случаев основываются на происходящем перед произнесением звука психическом процессе, уже удачно преодолены «младограмматиками» — направлением, исходящим из высказанных в трудах Шерера положений. В этом отношении будущие ученые должны исследовать многое точнее и детальнее, и если историческое языкознание и психология будут связаны более тесно, чем это было до сих пор, то можно предположить, что благодаря этой связи будет открыто немало важных для метода исторического языкознания положений.
Если недостаточное исследование речевого механизма, особенно почти полное невнимание к его психической стороне, в прежнем сравнительном языкознании следует отнести к недостаткам, за-
154
труднявшим и замедлявшим достижение правильных исходных положений для исследования изменения и образования новых форм в наших индоевропейских языках, то ныне к ним присоединился еще один, влияние которого было куда более худшим и который породил такое заблуждение, что, покуда его разделяли, сделало открытие этих методических положений прямо-таки невозможным. Реконструкция индоевропейского языка-основы была до сих пор главной целью и средоточием усилий всего сравнительного языкознания. Следствием этого явился тот факт, что* во всех исследованиях внимание было постоянно направлено в сторону праязыка. Внутри отдельных языков, развитие которых известно нам по письменным памятникам, — индийского, иранского, греческого и т. д.— интересовались почти исключительно древнейшими, наиболее близкими к праязыку периодами, следовательно, древнеиндийским, а в нем особенно ведическим, древнеиранским, древнегреческим, а в нем главным образом гомеровским диалектом, и т. д. Более поздние периоды развития языков рассматривались с известным пренебрежением, как эпохи упадка, разрушения, старения, а их данные по возможности не принимались во внимание.
Из форм древнейших исторически известных периодов развития языков конструировали индоевровпейские проформы. И эти последние в такой степени стали общепризнанным масштабом для рассмотрения исторических формаций языка, что сравнительное языкознание получало общие представления о жизни языков, их развитии и преобразовании главным образом с помощью индоевропейских праформ. Но то, что на этом пути нельзя было прийти к правильным руководящим принципам исследования изменения и возникновения новых форм в наших индоевропейских языках, настолько ясно, что приходится удивляться тому, как много людей все еще не понимают этого. Разве достоверность, научная вероятность тех индоевропейских праформ, являющихся, конечно, чисто гипотетическими образованиями, зависит прежде всего не от того, согласуются ли они вообще с правильным представлением о дальнейшем развитии форм языка и были ли соблюдены при их реконструкции верные методические принципы? Следовательно, до сих пор ученые двигались, да и в настоящее время двигаются, не зная этого или не желая себе в этом признаться, по самому настоящему кругу.
. Мы должны намечать общую картину характера развития языковых форм не на материале гипотетических праязыковых образований и не на материале древнейших дошедших до нас индийских, иранских, греческих и т. д. форм, предыстория которых всегда выясняется только с помощью гипотез и реконструкций. Согласно принципу, по которому следует исходить из известного и от него уже переходить к неизвестному, эту задачу надо разрешать на материале таких фактов развития языков, история которых может быть прослежена с помощью памятников на большом отрезке времени и исходный пункт которых нам непосредственно известен. Чем больше
155
языкового материала предоставляет нашему наблюдению беспрерывная, насчитывающая столетия письменная традиция, тем в более благоприятном положении мы находимся, и чем дальше какой-либо период развития языка удален по направлению к современности от времени, которым датируется начало письменной традиции, тем неизбежно поучительнее для нас он становится. Следовательно, ученый, занимающийся сравнительным изучением языков, должен обратить свой взор не к праязыку, а к современности, если он хочет иметь правильное представление о характере развития языка; он должен, наконец, полностью отбросить мысль о том, что компаративисту, изучающему индоевропейские языки, следует обращать внимание на позднейшие фазы развития этих языков только тогда» когда они дают языковой материал, который может быть использован при реконструкции индоевропейского языка-основы.
Языки, подобные германским, романским, славянским, являются, без сомнения, такими, где сравнительное языкознание вернее в с е г о может выработать свои методологические принципы. Во-первых, здесь соблюдено основное условие: мы можем проследить развитие и процесс преобразования языковых форм с помощью памятников на протяжении многих столетий. Затем, здесь в гораздо большей степени, чем в древнеиндийском, древнегреческом, латинском языках, мы имеем дело с неподдельной народной речью, с обычным разговорным языком. То, что нам известно о древних индоевропейских языках по дошедшим до нас памятникам, является языком, в такой степени подвергшимся литературному влиянию (слово «литературный» понимается здесь в самом широком смысле), что мы вряд ли можем говорить о знании устного, самобытного, непритязательного каждодневного языка древних индийцев, греков и римлян. Но как раз именно этот последний способ сообщения мыслей является таким, наблюдая над которым можно выработать правильную точку зрения для оценки происходящих в устах народа преобразований языка, особенно для оценки доисторического периода в развитии языков. Далее, упомянутые новые языки обладают по сравнению с древними языками еще и тем несомненным преимуществом, столь важным для достижения нашей цели, что результатом их развития в народе, прослеживаемого по памятникам на протяжении веков, являются живые языки, включающие множество диалектов. Эти живые языки, однако, еще не настолько отличаются от более древних, удаленных на столетия и доступных только в письменной форме, чтобы их нельзя было использовать в качестве прекрасного корректива для тех ошибок, которые неоднократно и неизбежно допускались из-за того, что ученые полагались только на данные этой письменной передачи речи прежних времен. Каждый знает, что мы можем проверить историю верхненемецких звуков в отдельных наречиях с древневерхненемецкого периода до наших дней с гораздо большей достоверностью, чем, например, историю греческих звуков в древнегреческий период, потому что живые звуки современности дают возможность правильно понять значение тех письмен, с по-
156
мощью которых немцы пытались в далеком прошлом фиксировать звуки. Ведь буквы всегда представляют собой лишь грубые и неумелые, а зачастую и вводящие в заблуждение отображения звуков живой речи; таким образом, вообще невозможно получить верное представление о ходе процесса преобразования какого-либо звука в том или ином древнегреческом или латинском наречии.
Именно новейшие периоды развития новых индоевропейских языков живые народные говоры имеют большое значение для методологии сравнительного языкознания и. в ряде других случаев. Здесь следует остановиться только на одном обстоятельстве, о котором до сих пор слишком мало говорили в языкознании именно потому, что всегда пренебрегали новыми и новейшими периодами в жизни языков. Во всех живых народных говорах свойственные диалекту звуковые формы проводятся через весь языковой материал и соблюдаются членами языкового коллектива в их речи куда более последовательно, чем это можно ожидать от изучения древних, доступных только через посредство письменности языков; эта последовательность часто распространяется на тончайшие оттенки звуков. Тому, кто не в состоянии caм проделать эти наблюдения над своим родным или иным наречием, следует обратиться, например, к превосходной работе И. Винтелера «Керенцское наречие кантона Гларус» (Лейпциг и Гейдельберг, 1876), которая убедит его в правильности сказанного 1. Не следует ли тем, кто так охотно и так часто допускает немотивированные исключения из механических звуковых законов, обратить внимание на эти факты? Если лингвист может собственными ушами услышать, как протекает жизнь языка, почему он предпочитает составлять себе представление о последовательности и непоследовательности в звуковой системе единственно на основании неточной и ненадежной письменной традиции древних языков? Если кто-нибудь захочет исследовать анатомическое строение какого-либо органического тела и будет располагать прекраснейшими препаратами, разве он откажется от препаратов ради заведомо неточных рисунков?
Итак, только тот компаративист-языковед, который покинет душную, полную туманных гипотез атмосферу мастерской, где куются индоевропейские праформы, и выйдет на свежий воздух осязаемой действительности и современности, чтобы познать то, что непостигаемо с помощью сухой теории, только тот, кто раз и навсегда откажется от столь распространенного ранее и встречающегося и сейчас метода исследования, согласно которому язык изучают только на бумаге, растворяют все в терминологии, в формулах и в грамматическом схематизме, полагая, что сущность явлений уже позна-
 1 Следует принять к сведению и общие замечания этого фонетиста о ненадежности обычной характеристики произнесенного слова и об опасностях, проистекающих отсюда для лингвиста.
1 Следует принять к сведению и общие замечания этого фонетиста о ненадежности обычной характеристики произнесенного слова и об опасностях, проистекающих отсюда для лингвиста.
157
 на, как только для вещи найдено имя,— только такой ученый сможет достичь правильного понимания характера жизни и преобразования языковых форм и выработать те методические принципы, без которых в исследованиях по истории языка вообще нельзя достичь достоверных результатов и без которых проникновение в периоды до-письменной истории языков подобно плаванию по морю без компаса.
на, как только для вещи найдено имя,— только такой ученый сможет достичь правильного понимания характера жизни и преобразования языковых форм и выработать те методические принципы, без которых в исследованиях по истории языка вообще нельзя достичь достоверных результатов и без которых проникновение в периоды до-письменной истории языков подобно плаванию по морю без компаса.
Картина жизни языка, получаемая, с одной стороны, в результате изучения более поздних периодов развития языков и живых народных диалектов и, с другой — с помощью привлечения данных непосредственного наблюдения над психическим и физическим механизмом речи, отличается в своих существенных чертах от той картины, которую прежнее сравнительное языкознание, сосредоточившее свое внимание только на праязыке, видело в праиндоевропейском тумане и которая еще сегодня является для многих ученых руководящей нормой. И именно в силу существования этого различия, по нашему мнению, не остается ничего другого, как преобразовать прежние методические принципы нашей науки и навсегда отказаться от той неясной картины, которая никак не может отречься от своего туманного источника. *
Из сказанного отнюдь не явствует, что все здание сравнительного языкознания в том виде, в каком оно существует в настоящее время, должно быть снесено и целиком выстроено заново. Несмотря на указанные выше недостатки метода исследования, благодаря острому уму и трудолюбию работавших в области языкознания исследователей было достигнуто такое обилие значительных и, как кажется, имеющих вечную ценность результатов, что мы имеем полное право с гордостью оглядываться на историю развития нашей науки. Но нельзя отрицать, что многим достоинствам сопутствует много недостатков и шатких положений, даже если эти не выдерживающие критики положения все еще признаются многими исследователями как сохраняющие свое значение для сегодняшнего дня достижения. Прежде чем строить дальше, нужно подвергнуть все здание в его теперешнем виде основательной проверке. Уже в фундаменте есть множество ненадежных мест. Покоящееся на таком основании сооружение необходимо обязательно перебрать. Остальная часть сооружения, поднявшегося ввысь, может быть оставлена, как она есть, если она покоится на хорошей основе, или подвергнуться некоторому улучшению.
Как уже было указано выше, заслугой Шерера является то, что он настойчиво поднимал вопрос о том, как происходят в языках процессы преобразования и новообразования. К ужасу многих коллег и ко благу самой науки, Шерер в вышеназванной книге очень часто при объяснениях использовал принцип «переноса форм». Многие формы даже древнейших доступных нам периодов истории языков, которые до тех пор постоянно рассматривали как результат
158
чисто фонетического развития индоевропейских праформ, вдруг оказались не чем иным, как «продуктами ложной аналогии» 1. Это шло вразрез с традиционными взглядами, отсюда — недоверие и оппозиция с самого начала. Конечно, во многих пунктах Шерер, несомненно, был неправ, но он был столь же, несомненно, прав в неменьшем количестве случаев, и никто не может оспорить главной его заслуги, затмевающей все заблуждения и вряд ли оцененной достаточно высоко: он впервые поставил вопрос о правильности привычных методов, применявшихся до сих пор для рассмотрения изменения форм в древних периодах истории языка, например в древнеиндийском, древнегреческом языке и т. д., и о возможности и необходимости изучать эти языки на основе тех же принципов, что и новые языки, в которых наличие большого числа «образований по ложной аналогии» не вызывает сомнений.
' Часть языковедов, а именно те немногие, кого это касалось больше всего, прошли мимо этого вопроса и, выразив в немногих словах свое отрицательное отношение, остались при своем старом мнении. Это не удивительно. Попытки критиковать метод, ставший привычным и по-домашнему уютным, всегда побуждают людей скорее избавиться от помехи, а не предпринять основательную ревизию и, может быть, изменение привычного метода.
У других, более молодых исследователей семя, брошенное Шерером, упало на плодородную почву. Раньше всех усвоил эту мысль Лескин 2, и, проанализировав понятие «звукового закона» и «исключения из закона» основательнее, чем это до сих пор делалось, он пришел к ряду методологических принципов, которые он сначала применил в своих академических лекциях в Лейпциге. Затем другие молодые исследователи, вдохновленные его примером,— и среди них авторы этих «Разысканий»,— пытались и пытаются ныне приложить эти принципы к изучению все новых и новых фактов и добиться их признания все более широкими кругами. В основе этих принципов лежат две предельно ясные мысли: во-первых, язык не есть вещь, стоящая вне людей и над ними и существующая для себя; он по-настоящему существует только в индивидууме, тем самым все изменения в жизни языка могут исходить только от говорящих индивидов3; во-вторых, психическая и физическая дея-
 1 Так, например, Шерер утверждал (а Остгоф неправильно оспаривал это
1 Так, например, Шерер утверждал (а Остгоф неправильно оспаривал это
в своих «Исследованиях», II, 137), что др.-инд. bharami —«я несу» не является результатом звукового развития индоевропейской праформы bharami и что в
праиндоевропейском употреблялась форма bhara, а др.-инд. bharami является
новообразованием по аналогии с атематическими глаголами типа dadami.
2 Д. Лескин (1840—1916) — немецкий языковед, работавший особенно
много в области балтийского и славянского языкознания, один из основоположников младограмматизма. {Примечание составителя.)
3 Это признавали in thesi и раньше. Но то обстоятельство, что язык привыкли
всегда видеть только на бумаге, как и то, что постоянно говорили «язык», в то
время как по-настоящему следовало говорить «говорящие люди» (ведь отрицатель
но относился к спирантам, утрачивал в абсолютном исходе т, превращая и т. д. не греческий язык, а те из греков, от которых исходили указанные
159
 |
тельность человека, при усвоении унаследованного от предков языка и при воспроизведении и преобразовании воспринятых сознанием звуковых образов остается в своем существе неизменной во все времена.
Важнейшими методическими принципами «младограмматического» направления 1 являются два нижеследующих положения.
Во-первых: каждое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, незнающим исключений,
т. е. направление, в котором происходит изменение звука, всегда
одно и то же у всех членов языкового сообщества, кроме случая диалектного дробления, и все без исключения слова, в которых подверженный фонетическому изменению звук находится \ одинаковых условиях, участвуют в этом процессе.
Во-вторых, так как ясно, что ассоциация форм, т. е. новообразование языковых форм по аналогии, играет очень важную роль в жизни новых языков, следует без колебаний признать значение этого способа обогащения языка для древних и древнейших периодов, и не только вообще признать, но и применить этот принцип объяснения так, как он применяется для объяснения языковых явлений позднейших периодов. И совсем не следует удивляться, если окажется, что образования по аналогии в древних и древнейших периодах истории языка будут обнаружены нами в том же или в еще большем объеме, что и в более поздних и позднейших периодах.
Здесь не место вдаваться в дальнейшие подробности. Однако
позволим себе вкратце остановиться по меньшей мере на двух основных пунктах, чтобы показать несостоятельность некоторых упреков, сделанных недавно в адрес нашего метода. \
Первое. Только тот, кто строго учитывает действие звуковых законов, на понятии которых зиждется вся наша наука, находится на твердой почве в своих исследованиях. Напротив, тот, кто без всякой нужды, только для удовлетворения известных прихотей, допускает исключения из господствующих в каком-либо диалекте звуковых законов 2; кто или отрицает воздействие какого-либо
 звуковые изменения), имело последствием то, что неоднократно забывали истинное положение вещей и связывали с выражением «язык» совершенно ложное представление. Терминология и номенклатура часто являются очень опасными врагами науки.
звуковые изменения), имело последствием то, что неоднократно забывали истинное положение вещей и связывали с выражением «язык» совершенно ложное представление. Терминология и номенклатура часто являются очень опасными врагами науки.
1 Общую характеристику этих принципов до сих пор давали: Лескин в некоторых местах работы «Склонение в славянско-литовскрм и германском языках», Лейпциг, 1876; Мерцдорф в «Исследованиях», издаваемых Курциусом, IX, стр 231 и дальше, стр. 341; О с т г о ф в работе «Глагол в сложных именах», Вена, 1878; несколько подробнее писал о них Бругман в своих «Исследованиях», IX, стр. 317 и дальше, Kuhn's Zeitschrift, XXIV, стр. 3 и дальше, стр. 51 и дальше; и особенно Пауль в «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», стр. 320 и дальше; сюда относятся также последние работы Брюк-нера, «К учению о новообразованиях в литовском языке», «Archiv fur slavische Philologie», III, стр. 233 и дальше, и рецензия Остгофа на книгу Асколи «Studj critici», помещенная в № 33 «Jenaer Literatur-Zeitung» за 1878 г.
* Естественно, мы говорим здесь всегда только о механическом изменении звуков, а не о некоторых явлениях диссимиляции и перестановки звуков (метатезы), которые объясняются особенностями слов, где они происходят, постоянно являются
фонетического изменения на отдельные слова или категории слов, тогда как оно заведомо захватило все другие однородные формы, или допускает спорадически, только в изолированных формах, такое, звуковое изменение, которое нельзя найти во всех других однородных формах, или, наконец, кто заставляет тот же самый звук в тех же самых условиях изменяться в одних словах в одном, а в других — в другом направлении; кто, далее, видит во всех этих его излюбленных немотивированных исключениях норму, вытекающую из природы механического звукового изменения как такового и даже — как это очень часто случается — делает эти исключения основой для дальнейших выводов, уничтожая тем самым обычно наблюдаемую последовательность звукового закона,— тот с необходимостью впадает в субъективизм и руководствуется произвольными соображениями. В подобных случаях ученый может выдвинуть чрезвычайно остроумные соображения, которые, однако, не будут заслуживать доверия, почему он не имеет права жаловаться на встречаемое им холодное отрицание. То обстоятельство, что «младограмматическое» направление сегодня еще не в состоянии объяснить все «исключения» из звуковых законов, естественно, не может служить основанием для возражения против его принципов.
И второе — несколько слов об использовании принципа аналогии в исследовании более древних периодов истории языка,
По мнению некоторых, образования по аналогии встречаются предпочтительно в тех периодах истории языка, в которых «языковое чутье» уже «ослабло» или в которых, как еще говорят, «языковое сознание затемнено», следовательно, в более древних периодах истории языка их нельзя найти в таком же количестве, как в позднейших периодах х. Странное представление — представление, выросшее на той же почве, что и взгляды, согласно которым язык и формы языка ведут самостоятельную жизнь вне говорящих индивидов; разделяя эти взгляды, люди оказываются настолько порабощенными терминологией, что постоянно принимают образные выражения за саму действительность и навязывают языку понятия, являющиеся всего лишь выражением лингвистического мировоззрения. Если бы только кто-нибудь сумел навсегда покончить с такими вредными выражениями, как «юношеский возраст» и «старческий возраст языков», которые, как и многие другие, сами по себе совершенно невинные,— лингвистические термины до сих пор только проклинали и очень редко благословляли! Разве, например, для ребенка в Греции гомеровских времен, который, слушая формы языка в своем языковом коллективе, сохранял их в сознании и затем снова воспроизводил, для того чтобы быть понятым своими ближними, эти формы языка были древними, такими, которые он ощущал и
 физическим отражением чисто психического явления и никоим образом не уничтожают понятия звукового закона.
физическим отражением чисто психического явления и никоим образом не уничтожают понятия звукового закона.
1 Часто в трудах по языкознанию встречаются замечания типа: та или иная форма сохранилась со слишком давних времен, чтобы ее можно было считать образованием по ложной аналогии.
160
употреблял иначе, чем греки александрийской или еще более поздней эпохи ощущали и употребляли формы языка своего времени?1 Разве грамматист, если бы ему вдруг сегодня стал известен, например, греческий диалект XX века до нашей эры или германский диалект VIII века до н. э., не изменил бы тотчас свое понятие о древности, связывающееся у него с языковыми формами гомеровского и готского языка, и не стал бы с этих пор считать древнее новым, и разве бы он не стал, по всей вероятности, после этого считать греков гомеровского времени и готов IV века нашей эры людьми с «ослабленным языковым чутьем», «с затемненным языковым сознанием»? Таким образом, разве подобные определения имеют какое-нибудь отношение к самому предмету} Или в предчувствии будущего древние индоевропейцы потому не использовали принципа аналогии в образовании форм своего языка так широко, что хотели послужить грамматическим прихотям своих потомков и не затруднять им слишком сильно реконструкцию индоевропейского языка-основы? Наше мнение таково: как мы уверены в том, что нашим индоевропейским предкам, как и нам, для произношения звуков языка были нужны губы, язык, зубы и т. д., так мы можем быть уверены в том, что вся психическая сторона их языковой деятельности, в частности воплощение сохраняемых в памяти звуковых представлений в слова и предложения, так же и в такой же степени находилась под влиянием ассоциаций идей, как она находится сегодня и будет находиться впредь, пока люди останутся людьми. Следует только уяснить себе, что различия в общей структуре (Gesamthabitus) отдельных древних индоевропейских языков — потомков одного и того же индоевропейского праязыка — отнюдь не были бы столь значительными, если бы происходившее в доисторический период фонетическое изменение форм праязыка не сопровождалось интенсивным процессом аналогических преобразований старых форм и образования по аналогии новых форм. Следовательно, это не может служить признаком для отличия старого от нового.
Скорее на первый взгляд известный смысл имеет другой упрек, высказанный недавно с целью дискредитации наших усилий: говорят, что оперирующий понятием аналогии лишь иногда — может быть, в силу «счастливой случайности»— делает правильные выводы, в принципе же он обычно может апеллировать только к вере. Последнее утверждение само по себе совершенно правильно, и все, кто применяет принцип аналогии, ясно сознают это. Но нужно принять во внимание следующее.
Во-первых, если, например, окончание именительного падежа множественного числа греч. ίπποι, лат. equi не может быть фонетически связано с таким же окончанием в оскск. Nuvlanus, гот. wulfos, др.-инд. acvas мы считаем, что одна из этих форм является образованием по аналогии, то можно ли считать слишком смелым предпо-
 1 Мы, естественно, говорим здесь только об обычном разговорном языке и о народе без литературного и грамматического образования.
1 Мы, естественно, говорим здесь только об обычном разговорном языке и о народе без литературного и грамматического образования.
162
ложение, что и equi образованы по аналогии с местоименным склонением (например, праяз. tai от ta, др..-инд. te, гр. и т. д.)? Так же или почти так же бесхитростны остальные бесчисленные случаи, в которых мы применяем наш принцип объяснения, в то время как другие произвольно обращаются со звуковыми законами для того, чтобы только не сочли людей, говорящих на том или ином языке, плохими грамматистами, которые нетвердо знают свои формы и парадигмы.
Во-вторых, мы строжайшим образом соблюдаем принцип, согласно которому к аналогии следует прибегать только тогда, когда нас принуждают к этому звуковые законы. Ассоциация форм является и для нас последним прибежищем (ultimum refugium); различие состоит только в том, что, по нашему мнению, она встречается гораздо раньше и гораздо чаще именно потому, что мы строго придерживаемся звуковых законов, и потому, что уверены в том, что самое смелое предположение о влиянии аналогии, если оно не переходит границ возможного, все же дает гораздо больше оснований к тому, чтобы в него «верили», чем произвол в обращении с механическими звуковыми законами.
В-третьих, прошло совсем немного времени с тех пор, как начали применять принцип аналогии. Поэтому, с одной стороны, очень вероятно, даже несомненно, что отдельные предположения об ассоциации тех или иных форм являются неправильными, а с другой стороны, не подлежит сомнению, что постепенно с еще более детальным исследованием аналогических образований в современных языках будут найдены более общие точки зрения на самые различные направления процессов ассоциации; таким образом, впоследствии можно будет постепенно установить и критерий вероятности предположений об ассоциации форм. Для этого же необходимо предварительное наличие доброй воли к тому, чтобы усвоить факты изучения развития современных языков и затем добросовестно применять усвоенные принципы при изучении более древних периодов истории языка.
Таким образом, мы полагаем, что несправедливым оказывается и утверждение, согласно которому от работы с принципом аналогии следует отказаться, потому что она сводится к простому гаданию.
Заключая свои рассуждения, мы хотим добавить только одно: если «младограмматическое» направление в силу своих методологических принципов отказывается от многих принятых в нашей науке с давних пор и ставших для некоторых родными индоевропейских праформ и не может совершить мысленно «полет» в эпоху праязыка и предшествующие ему эпохи вместе с теми, кто уже сейчас неоднократно осмеливается на это, и если оно, как кажется людям, для которых основное — праязык, из-за своей скептической позиции отстает от старого направления в отношении результатов, то оно может, с одной стороны, утешаться мыслью, что для такой молодой науки, какой является сравнительная грамматика, несмотря на свои шестьдесят лет, гораздо важнее двигаться по наиболее верному пути, чем по далеко ведущему. С другой стороны, оно может лелеять
163
 |
надежду на то, что, отказавшись от некоторого количества праязыковых форм, оно восполнит с успехом эту потерю тем, что добьется более глубокого понимания психической деятельности человека вообще и психической деятельности отдельных индоевропейских народов в частности.
Мы полагали необходимым предпослать это свое кредо данным «Исследованиям» потому, что их основное назначение — способствовать дальнейшему распространению принципов «младограмматической» школы. Однако и здесь мы просим наших будущих критиков каждый раз стараться не упускать из виду тех принципов, исходя из которых мы встаем на сторону того или иного предположения. К сожалению, о нашем направлении или об отдельных выдвинутых нами положениях в последние годы неоднократно высказывались отрицательные суждения чрезвычайно общего характера, которые доказывают только то, что авторы этих высказываний совершенно еще не подумали над тем, руководствуясь какими мотивами мы следуем именно этому методу и никакому другому. Взаимопонимание и согласие между, различными направлениями, борющимися сейчас в нашей науке, не может быть достигнуто с помощью таких случайных, не касающихся основных вопросов стычек и с помощью критики частностей (это отнюдь не значит, что мы со своей стороны не будем искренне благодарны за указание отдельных ошибок и заблуждений). Взаимопонимание и согласие могут быть достигнуты только в том случае, если будут обсуждены основные мотивы и принципы.
Гейдельберг и Лейпциг, июнь 1878 г. \
ГЕРМАН ПАУЛЬ ПРИНЦИПЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКА1
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
ВВЕДЕНИЕ
Ни в одной области культуры нельзя с такой точностью изучить условия развития, как в области языка. Поэтому не существует ни одной гуманитарной науки, метод которой мог бы быть доведен до такой степени совершенства, как метод языкознания. Никакая другая наука не смогла до сих пор так далеко проникнуть за пределы памятников?, никакая другая из них не была в такой же степени конструктивна, как и спекулятивна. Именно благодаря






