(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Довольно уже писано о языке славянском, или, вернее, словенском, на который преложены в IX в. церковные книги для болгар и для моравов.
Сочинитель рассуждения, помещенного в VII части Трудов нашего Общества, О славянском и в особенности церковном языке заключает весьма основательно, что язык, на который преложены священные книги, не мог быть коренным или первобытным языком всего народа славянского, разделенного тогда на многие племена и на великом пространстве Европы рассеянного: он был наречием одного какого-нибудь племени. Но какого именно? — Сербского,— думает ученый Добровский, а с ним и сочинитель помянутого рассуждения.
Оставляя теперь рассмотрение доводов, на коих мнение сие утверждается, почитаю нужным сказать нечто о самом строении, или грамматике, сего языка в древнейшем его виде и заметить перемены, каким он в течение веков подвергался. Следуя за таковыми переменами в строении слов и в правописании языка славянского, от древнейших письменных памятников до новоисправленных печатных книг церковных, после коих язык сей никаких уже дальнейших перемен не принимает, можно разделить оный по постепенным его изменениям с течением столетий на древний, средний и новый.
Древний язык заключается в письменных памятниках от IX и за XV столетие. Он неприметно сливается с языком средним XV и XVI столетий, а за сим уже следует новый славянский, или язык печатных церковных книг.
Новый язык утратил многие формы грамматические, которые обогащали древний славянский и которые открываются еще и в среднем языке; но принял зато другие, заимствованные частью из образовавшихся между тем живых языков — русского, сербского, польского, коим говорили переписчики книг, частью же и и з о б-ретенные позднейшими грамматиками. Как переписчики, так и грамматики имели свои причины переменять или, по их мнению,
поправлять язык уже мертвый, в книгах только сохранявшийся. Одни почитали нужным заменить невразумительные для них слова или окончания употребительными в их время и на их диалекте, чтобы быть понятными для народа, среди коего писали. Другие самопроизвольными переменами думали придать правильность языку, который в доставшихся им книгах, может быть, действительно был искажен неучеными переписчиками или коего древние, правильные формы могли показаться им ошибками переписчиков, когда они в их время были уже неупотребительны и притом еще когда они не подходили под правила греческой и латинской грамматики.
Между тем видно по рукописям XIV даже столетия, что сей язык, на который преложены библейские книги, был не только у сербов, как полагает Добровский, но и у русских славян едва ли не в общенародном употреблении! Замечавшие большую разность между древним русским языком, коего остатки находят в Русской правде, в Слове о полку Игореве и проч., и между церковнославянским, разумели, конечно, под сим последним язык печатных церковных книг. Они бы не сказали того о древнем церковно-славянском. Разность диалектов, существовавшая, без сомнения, в самой глубокой уже древности у разных поколений славянских, не касалась в то время еще до склонений, спряжений и других грамматических форм, а состояла большею частью только в различии выговора и в употреблении некоторых особенных слов. Например, русские славяне издревле говорили волость вместо власть, город вместо град, берег вместо брег и проч. Щ в словах нощь, пещь, вращати и проч. заменяли они издревле буквою ч: ночь, печь, ворочати, так, как поляки в тех же случаях щ заменяют буквою ц: noc, piec, wracac, a сербы — ħ (ть): ноħ, njeħ, bpaħamu. Таким же образом церковнославянское жд заменяется у русских одинаким ж: вожь вместо вождь, дажь вместо дождь; у поляков — dz: wodz; у сербов ђ(дь): voђ). Русские не имели также звуков, выражаемых буквами. кирилловской азбуки, а вместо оных, выговаривали. Особенные слова, коими отличался русский диалект от церковнославянского в древнем оного периоде, были некоторые частицы, местоимения, наречия и тому подобное; например, оже вместо еже, аже и аче вместо аще, ать вместо да, оли и олны вместо даже до и проч.
Но чем глубже в древность идут письменные памятники разных славянских диалектов, тем сходнее они между собою. Краинский язык X столетия, сохранившийся в некоторых отрывках, найденных в Баварии (см. Добровского, Slovanka, 1,249), вообще весьма близок к церковному славянскому языку. Собрание богемских древних стихотворений XII и XIII столетий, изданное в 1819 г. в Праге под заглавием Rucopis Kralodworsky, имеет многие разительные сходства в оборотах и в строении языка даже с русским того же времени, при всем том, что чехи и русские славяне принадлежат к двум разным поколениям, к западному и восточному, издревле разделенным некоторыми отменами диалекта.
3 В. А. Звегинцев
По сему почти заключать можно, что во время Константина и Мефодия все племена славянские, как западные, так и восточные, могли разуметь друг друга так же легко, как теперь, например, архангелогородец или донской житель разумеет москвича или сибиряка.
Грамматическая разность диалектов русского, сербского, хорватского между славянами восточного племени стала ощутительною уже спустя может быть 300 или 400 лет после преложения церковных книг и потом, увеличиваясь с течением веков и с политическим разделением народов, дошла, наконец, до той степени, в какой мы видим ее ныне, когда каждый из сих диалектов сделался особенным языком. То же происходило с диалектами западного племени, с богемским, польским, лузатским и проч., кои, однакож, остававшись всегда в ближайшем соседстве одни с другими, кажется, не столь много потеряли сходства между собою.
Каждый из новославянских языков и диалектов сохранил какие-нибудь особенные, потерянные другими слова, окончания и
звуки общего их прародителя, древнего славянского, как
сие можно видеть, сличая их грамматики и словари с памятниками,
от древнего ящика оставшимися. С помощью такового сличения,
полагая в основание древнейший известный мне памятник языка и
письма славянского — Остромирово евангелие, я постараюсь изложить грамматику древнего славянского языка. Льщусь надеждою, что сей труд может быть полезен не только при составлении
этимологического словаря славянского, коему грамматика необходимо должна предшествовать, но также при будущем исправлении
или пополнении и грамматик в новых языках, происшедших от славянского.
Возвращаюсь к принятому мною, разделению церковного.славянского языка на древний, средний и новый. Мы имеем доселе только сего последнего языка грамматики. Дабы дать читателю понятие, чем отличается древний славянский язык от нового и какие постепенные изменения слов и окончаний образуют переход от древнего к новому, т. е. средний язык, покажу здесь некоторые главнейшие особенности языка древнего и последовавшие в оном перемены...
Не одни сербы (мы говорим здесь об ученом духовенстве), но и другие славяне и даже неславяне греческого исповедания, например волохи, отправляющие богослужение по славянским церковным книгам, пишут хорошо на церковном славянском языке, как я имел случай видеть по некоторым бумагам. Язык сей, коему они смолоду учатся, сделался для них книжным языком так, как для западного духовенства латинский. В таком же употреблении был славянский язык в России между духовенством, пока народный русский язык не сделался книжным. Нынешний же сербский едва ли не более всех восточнославянских диалектов отдалился от церковного славянского, так что трудно поверить непосредственному
его просхождению от оного. Правда, что и русский простонародный язык весьма несходен стал не только со славянским, но даже с русским же к н и ж н ы м языком, обогатившимся многими словами из церковнославянского и поправляющим по оному выговор свой и правописание. Если бы русский язык с самого начала не находился в беспрестанном соотношении с церковным славянским, а предоставлен бы был своему собственному ходу и изменению так, как, например, краинский, лузатский и другие диалекты, на коих
. писать стали в новейшие только времена, то и мы, может быть, теперь писали бы, соображаясь с народным выговором: маево, тваево или еще маво, тваво вместо моего, твоего; фсево вместо всево; хто, што вместо кто, что и тому подобное. Какому бы диалекту перво-
начально ни принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались
оным для обогащения и для очищения собственного своего народ-
ного диалекта.
ЯКОБ ГРИММ ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К „НЕМЕЦКОЙ ГРАММАТИКЕ"1
...Мною сильно завладела мысль предпринять составление исторической грамматики немецкого языка, даже если бы ей, как пер-: вой попытке, было суждено через непродолжительное время оказаться превзойденной последующими работами. При внимательном чтении древненемецких источников я ежедневно открывал такие формы и совершенства языка,' из-за которых мы обыкновенно завидуем грекам и римлянами, когда оцениваем свойства нашего теперешнего языка; следы, которые в современном языке еще сохранились в обломках и как бы в окаменелом виде, стали мне мало-помалу ясными, и резкие переходы сгладились, когда явилось возможным связать новое со средним и среднее с древним. Вместе с тем обнаружились самые поразительные сходные черты между всеми родственными наречиями, равно как и не замеченные до сих пор отношения их отличий. Мне казалось весьма важным проследить до мелочей и изобразить эту непрерывную распространяющуюся связь; осуществление плана я представил себе настолько совершенно, что сделанное пока мною остается далеко позади его. \
же, по меткому замечанию А. Шлегеля, и во многом более совершенная индийская грамматика не может служить коррективом этим двум последним. Диалект, который нам история представляет в виде самого древнего и наименее испорченного, должен устанавливать правила для общего описания всех разветвлений племени и преобразовать уже вскрытые законы более поздних наречий, не уничтожая их при этом. Мне представляется, что наша немецкая грамматика скорее выигрывает, чем проигрывает от того, что изучение ее следует начинать снизу вверх. Тем самым она сможет лучше способствовать описанию общей и вместе с тем детальной картины, если даже при этом некоторые из ее первоначальных правил в результате более глубокого познания должны будут быть определены иным образом.
 ...Мне думается, что развитие народа необходимо для языка независимо от внутреннего роста этого последнего; если он не хиреет, он расширяет свои внешние границы. Сказанное объясняет многое в грамматических явлениях. Диалекты, которые по своему положению находятся в благоприятных условиях и не притесняются другими, изменяют свои флексии медленнее; соприкосновение нескольких диалектов, если даже при этом побеждающий обладает более совершенными формами в силу того обстоятельства, что он, воспринимая слова, должен выровнять свои формы с формами другого диалекта, способствует упрощению обоих диалектов. Это явление может быть исследовано только посредством точного сравнения всех немецких диалектов, что здесь неуместно.
...Мне думается, что развитие народа необходимо для языка независимо от внутреннего роста этого последнего; если он не хиреет, он расширяет свои внешние границы. Сказанное объясняет многое в грамматических явлениях. Диалекты, которые по своему положению находятся в благоприятных условиях и не притесняются другими, изменяют свои флексии медленнее; соприкосновение нескольких диалектов, если даже при этом побеждающий обладает более совершенными формами в силу того обстоятельства, что он, воспринимая слова, должен выровнять свои формы с формами другого диалекта, способствует упрощению обоих диалектов. Это явление может быть исследовано только посредством точного сравнения всех немецких диалектов, что здесь неуместно.

 ...В грамматике я чужд общелогических понятий. Они, как кажется, привносят с собой строгость и четкость в определениях, но они мешают наблюдению, которое я считаю душой языкового исследования. Кто не придает никакого значения наблюдениям, которые своей фактической определенностью первоначально подвергают сомнению все теории, тот никогда не приблизится к познанию непостижимого духа языка. И в этой области можно обнаружить два различных направления, одно из которых направлено сверху вниз, а другое снизу вверх; оба они обладают своими достоинствами. Возможно, греческие и римские грамматики с высоты расцвета их языков имели бы основание подвергать сомнению посягательство немецкого языка на такую же тонкость и совершенство. Однако так же, как возвышенное состояние латинского и греческого не во всех случаях способно удовлетворить немецкую грамматику, в которой отдельные струны звуча т еще чище и глубже, точно так
...В грамматике я чужд общелогических понятий. Они, как кажется, привносят с собой строгость и четкость в определениях, но они мешают наблюдению, которое я считаю душой языкового исследования. Кто не придает никакого значения наблюдениям, которые своей фактической определенностью первоначально подвергают сомнению все теории, тот никогда не приблизится к познанию непостижимого духа языка. И в этой области можно обнаружить два различных направления, одно из которых направлено сверху вниз, а другое снизу вверх; оба они обладают своими достоинствами. Возможно, греческие и римские грамматики с высоты расцвета их языков имели бы основание подвергать сомнению посягательство немецкого языка на такую же тонкость и совершенство. Однако так же, как возвышенное состояние латинского и греческого не во всех случаях способно удовлетворить немецкую грамматику, в которой отдельные струны звуча т еще чище и глубже, точно так
 'Jacob Grimm. Deutsche Grammatik. Erster Thеil. Первое издание в 1819 г., второе, совершенно переработан ное,— в 1822 г.
'Jacob Grimm. Deutsche Grammatik. Erster Thеil. Первое издание в 1819 г., второе, совершенно переработан ное,— в 1822 г.
52
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА1
(ПРОЧИТАНО В АКАДЕМИИ НАУК 9 ЯНВАРЯ 1851 г.) (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Каково бы ни было наше отношение к тем результатам, которые могли быть достигнуты и были достигнуты в 1770 г. 2, нельзя никак отрицать того, что с тех пор положение в языкознании существенно или полностью изменилось. Уже поэтому попытка дать новый ответ на этот вопрос, как он нам в настоящее время представляется, является желательной, так как на любом предмете, который подвергается философскому или историческому рассмотрению, должно сказаться благое влияние более тщательной его разработки и
 1 J. Grimm, Uber den Ursprung der Sprache. Kleinere Schriften. Erster
1 J. Grimm, Uber den Ursprung der Sprache. Kleinere Schriften. Erster
Band, Berlin, 1864.
2 Речь идет о книге Г е р д е р а «Рассуждение о происхождении языка»
<Abhandlung uber den Ursprung der Sprache), которая была опубликована в 1772 г.
^Примечание составителя.)
53
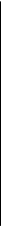 |
более совершенного анализа. Сейчас все лингвистические штудии находятся в несравнимо более выгодном положений и имеют куда лучшую базу, чем в то время; можно сказать даже, что они развились в настоящую науку только в нашем столетии. Характер изучения классических языков в прошлом, да фактически и в настоящем (хотя он уместен для иных высоко ценимых мной целей филологии) никогда не приводил даже случайно к общим и решающим выводам относительно соотношения языков между собой. Пытались проникнуть в сущность латинского или греческого языка настолько, насколько это было необходимо для понимания духа драгоценных и достойных восхищения во все времена памятников, в которых эти языки нашли свое отражение и в которых они дошли до нас; а для того, чтобы овладеть этим Духом, нужно чрезвычайно много. Мощное внешнее проявление и форма языка оказались подчиненными этой цели. Классическая филология относилась в известной мере равнодушно к тому, чтобы понять, какие моменты в ней выходили за пределы речевого обычая, поэтического искусства и содержания произведений, и из всех более тонких и детальных наблюдений ценными eй казались почти исключительно такие, которые каким-либо образом способствовали созданию более твердых правил критики текстов. Сам по себе внутренний строй языка привлекал мало внимания и словно предполагался в своей красоте и богатстве, почему даже самые примечательные лексические явления, представлявшиеся по своим понятиям ясными, в большинстве случаев оставались нерассмотренными. Подобно тому как полновластно распоряжающийся родным языком и безупречно владеющий им художник не нуждается почти ни в каких сведениях; о его внутреннем строе и тем более о его исторических изменениях и только иногда ищет какое-нибудь редкое слово, которое он употребляет в подобающем месте, так и грамматист лишь в порядке исключения искал какую-нибудь странную для него форму корня слова, рассматривая ее как материал для упражнения в своем искусстве. В этом причины того, почему проводимое в течение многих веков неустанное внимательное изучение латинского и греческого языков в школе и в кабинетах ученых достигло наименьших успехов в области элементарной морфологии и принесло плоды только для почти наполовину не принадлежащего грамматике синтаксиса. Не умели четко сопоставить строй обоих языков и с равным правом объяснить взаимно факты одного языка фактами другого (а ведь именно к этому настоятельно побуждали оба эти классические языка), потому что ошибочно считали латинский язык покорной дочерью греческого; еще меньше были в состоянии помочь занять подобающее место нашему родному языку, которому повсюду в школе приходилось выполнять вспомогательную работу в качестве бесправного поденщика, не говоря уже о том, чтобы рассматривать его как третий основной предмет, хотя как по трем заданным точкам можно построить фигуру, так и из соотношения трех родственных языков можно вывести закон их жизни.
Многократно и не без основания изучение языков ставили рядом с изучением естественной истории; они сходны друг с другом даже по характеру своих худших и лучших методов. Бросается в глаза, что как филологи в прежнее время исследовали памятники классических языков для вывода критических правил исправления поврежденных и испорченных текстов, так и ботаники первоначально прилагали свою науку для открытия целебных сил в отдельных травах, а анатомы вскрывали трупы, чтобы получить точные сведения о внутреннем строении и, опираясь на них, восстанавливать расстроенное здоровье. Материал привлекал к себе не как таковой, а как средство. Но постепенно назревало изменение во взглядах и методах. Естественным является и подтверждается на опыте то обстоятельство, что люди проходят мимо знакомых фактов, ежедневно представляющихся их взору, а чужое и новое гораздо сильнее притягивает их внимание и побуждает к наблюдению. Поэтому позволительно утверждать, что с путешествиями за границу, с появлением в наших садах чужих редких растений, с переселением многих видов животных из далеких частей света в Европу науки изменили свой характер и при изучении этих предметов они отошли от названных практических целей и вступили на путь более беспристрастных, но потому и более научных исследований. Ведь истинным признаком науки является как раз то, что она стремится к всесторонним результатам и ищет, находит и подвергает тщательнейшему испытанию каждую видимую особенность вещей, не думая о том, что из этого получится. Как мне кажется, языкознание подверглось столь же основательному преобразованию на том же пути, вступление на который означало для науки о строении растений и животных отход от прежней ограниченной точки зрения и возвышение до сравнительной ботаники и анатомии. Несомненно, что с появлением составленного в 1787—1790 гг. по указу императрицы Екатерины Петербургского словаря хотя он и был построен на еще очень неудовлетворительной основе, сравнение языков вообще получило толчок к дальнейшему действенному развитию...
...Совершенство и поразительная правильность санскрита, помимо того что этот язык пролагал путь к одной из древнейших и богатейших литератур, побудили к ознакомлению с ними ради него самого, и после того как лед был сломан и найден компас, с помощью которого могли ориентироваться все странствующие по языковому океану, так неожиданно и ярко осветилась длинная вереница непосредственно связанных с индийским и родственных ему языков, что благодаря этому отчасти уже выяснилась и частью выясняется истинная история всех этих языков, как она еще никогда не открывалась взору языковеда. Были получены ошеломляющие результаты, глубоко вскрывающие суть дела. В то же самое время были сделаны попытки показать законы исторического развития наших германских языков, которым до тех пор уделяли непонятно мало
 1 «tGlossarium comparativum linguarum totius orbis».
1 «tGlossarium comparativum linguarum totius orbis».
внимания. Так естествоиспытатель открывает в стеблях и клубнях
родных трав те же самые чудесные силы, что и замеченные им в чу
жеземных растениях. Одновременно с этих позиций было уделено
гораздо больше внимания соседним с нами славянским, литовским
и кельтским языкам, за которыми постепенно было признано их
значение для истории и которые уже стали предметом исторического
рассмотрения или без сомнения подвергнутся ему. Таким образом,
были найдены если не все, то по крайней мере большинство звеньев
великой, почти необозримой цепи языков с общими корнями и с общей
системой флексий. Эта цепь простирается от Азии до наших стран,
заполняет почти всю Европу и уже сейчас может быть названа могущественнейшей семьей языков на всем земном шаре. Этот индо-
германский язык должен в то же время дать самые исчерпывающие
разъяснения относительно путей развития человеческого языка
вообще, может быть, и относительно его происхождения. Они могут
быть получены в результате изучения внутреннего строя этого языка, который может быть отчетливо прослежен в своих бесчисленных
видоизменениях, принимаемых им в каждом отдельном случае.
Я имею право говорить о возможности выполнения исследования о
происхождении языка, как о проблеме, в удачном решении которой
многие еще сомневаются. Если бы все же оказалось, что ее можно
решить, то такие скептики возразили бы, что наши языки и наша
история должны восходить к еще более раннему периоду, чем это
возможно сделать, так как вероятно и даже несомненно, что древнейшие памятники санскритского или зендского языков, подобно па
мятникам еврейского языка или еще какого-нибудь, который хотят
выдать за самый древний язык, на многие тысячелетия отстоят от
момента действительного происхождения языка или от момента
сотворения рода человеческого на земле.
 При поверхностном рассмотрении многое располагает к тому, чтобы предположить наличие самопроизвольно развившегося человеческого языка. Если мы представим себе всю его красоту, мощь и многообразие и то, как он распространяется по земному шару, то в нем проявится что-то почти сверхчеловеческое, вряд ли созданное человеком, скорее кое-где испорченное его руками, посягнувшими на совершенство языка. Разве не подобны виды языков видам в растительном и животном мире и даже самому роду человеческому во всем почти бесконечном многообразии их облика?
При поверхностном рассмотрении многое располагает к тому, чтобы предположить наличие самопроизвольно развившегося человеческого языка. Если мы представим себе всю его красоту, мощь и многообразие и то, как он распространяется по земному шару, то в нем проявится что-то почти сверхчеловеческое, вряд ли созданное человеком, скорее кое-где испорченное его руками, посягнувшими на совершенство языка. Разве не подобны виды языков видам в растительном и животном мире и даже самому роду человеческому во всем почти бесконечном многообразии их облика?
Разве язык в благоприятных условиях не расцветает, подобно дереву, которое, не будучи ничем стеснено, пышно разрастается во все стороны? И разве не перестает развиваться язык и не начинает хиреть и мертветь, как хиреет и сохнет растение при недостатке света и земли? Удивительная целебная сила языка, с которой он залечивает полученные раны и восполняет потери, также кажется принадлежащей к силам могущественной природы вообще. Подобно
природе, язык умеет обойтись незначительными средствами и поразить своим богатством, так как он бережлив без скупости и исключительно щедр без расточительства.
 Нет, язык не есть прирожденное человеку свойство, и во всех своих проявлениях и достижениях и успехах он не может быть приравнен к крикам животных; в некоторой степени общим для них является только одно — их основа, необходимо обусловленная физической организацией сотворенного тела.
Нет, язык не есть прирожденное человеку свойство, и во всех своих проявлениях и достижениях и успехах он не может быть приравнен к крикам животных; в некоторой степени общим для них является только одно — их основа, необходимо обусловленная физической организацией сотворенного тела.
Всякий звук образуется в результате движения и сотрясения воздуха; даже стихийный шум воды или потрескивание дерева в огне обусловлены сильными ударами волн друг о друга и производимым ими давлением на воздух или расходованием горючих веществ, приводящих воздух в движение.
 Необходимая очередность и мера этих звуков и тонов естественно обусловлены, так же как гамма в музыке или последовательность и градация цветов. К. их закону ничего нельзя добавить. Ведь кроме семи основных цветов, дающих бесчисленные сочетания, немыслимы никакие другие. Мало также можно прибавить к трем гласным а, i, и, из сочетания которых образуются е, о и все остальные дифтонги с возникающими из них долгими гласными, или расширить в принципе порядок полугласных, являющихся в бесчисленном многообразии сочетаний. Эти первоначальные звуки прирождены нам, так как, будучи обусловлены органами нашего тела, они возникают в результате выдохов разной силы из легких и гортани или производятся с помощью нёба, языка, зубов и губ. Некоторые из этих условий настолько ясны и осязательны, что их можно воспроизвести до известной степени и, по-видимому, изобразить с помощью искусственных механических приспособлений. Так как органы многих видов животных сходны с органами человеческого тела, то не следует удивляться тому, что как раз среди птиц, которые по своему строению гораздо дальше отстоят от нас, чем млекопитающие, но по прямой посадке шеи приближаются к нам и потому обладают благозвучными голосами,— попугаи, скворцы, вороны, сороки и дятлы в состоянии почти безупречно запоминать человеческие слова и повторять их. Напротив, никто из млекопитающих не может сделать этого, а тем более до ужаса похожие на нас обезьяны, которые, хотя и пытаются повторять некоторые наши движения, но никогда не подражают нашему языку. Можно было бы подумать, что тем видам обезьян, которые овладевают прямой походкой, должно удаться воспроизведение гласных, зубных и небных согласных, хотя для них было бы невозможно произнесение губных звуков из-за оскаленных зубов. Но ничто не указывает на то, что они отваживаются говорить.
Необходимая очередность и мера этих звуков и тонов естественно обусловлены, так же как гамма в музыке или последовательность и градация цветов. К. их закону ничего нельзя добавить. Ведь кроме семи основных цветов, дающих бесчисленные сочетания, немыслимы никакие другие. Мало также можно прибавить к трем гласным а, i, и, из сочетания которых образуются е, о и все остальные дифтонги с возникающими из них долгими гласными, или расширить в принципе порядок полугласных, являющихся в бесчисленном многообразии сочетаний. Эти первоначальные звуки прирождены нам, так как, будучи обусловлены органами нашего тела, они возникают в результате выдохов разной силы из легких и гортани или производятся с помощью нёба, языка, зубов и губ. Некоторые из этих условий настолько ясны и осязательны, что их можно воспроизвести до известной степени и, по-видимому, изобразить с помощью искусственных механических приспособлений. Так как органы многих видов животных сходны с органами человеческого тела, то не следует удивляться тому, что как раз среди птиц, которые по своему строению гораздо дальше отстоят от нас, чем млекопитающие, но по прямой посадке шеи приближаются к нам и потому обладают благозвучными голосами,— попугаи, скворцы, вороны, сороки и дятлы в состоянии почти безупречно запоминать человеческие слова и повторять их. Напротив, никто из млекопитающих не может сделать этого, а тем более до ужаса похожие на нас обезьяны, которые, хотя и пытаются повторять некоторые наши движения, но никогда не подражают нашему языку. Можно было бы подумать, что тем видам обезьян, которые овладевают прямой походкой, должно удаться воспроизведение гласных, зубных и небных согласных, хотя для них было бы невозможно произнесение губных звуков из-за оскаленных зубов. Но ничто не указывает на то, что они отваживаются говорить.
Моей задачей было доказать, что язык так же не мог быть результатом непосредственного откровения, как он не мог быть врожденным человеку; врожденный язык сделал бы людей животными, язык-откровение предполагал бы божественность людей. Остается только думать, что язык по своему происхождению и развитию — это человеческое приобретение, сделанное совершенно естественным образом. Ничем иным он не может быть; он — наша история, наше наследие.
 Но язык и мышление не существуют изолированно для каждого отдельного человека. Напротив, все языки представляют собой уходящее в историю единство, они соединяют мир. Их многообразие служит умножению и оживлению движения идей. Вечно обновляющийся и меняющийся род человеческий передает это драгоценное, доступное всем приобретение в наследство потомкам, которые обязаны сохранять его, пользоваться им и умножать полученное достояние, так как здесь усвоение и обучение непосредственно и незаметно проникают друг в друга. Младенец у материнской груди слышит первые слова, произнесенные мягким и нежным голосом; матери, и они прочно запечатлеваются в его не отягощенной ничем s памяти еще прежде чем он овладевает собственными органами речи. Поэтому язык и называется родным языком (Muttersprache), и с годами знание ребенка растет все быстрее. Только родной язык связывает нас наиболее крепкими узами с родными местами, а что применимо к отдельным народам и племенам, обладающим равным языковым своеобразием, то должно иметь силу для всего человечества. Без языка, поэзии и своевременного изобретения письменности и затем книгопечатания могли бы истощиться лучшие силы человечества. Хотели, приписать божественному указанию также и, появление у людей письменности, но ее явно человеческое происхождение, ее постоянное усовершенствование должны, если это понадобится, подтвердить и пополнить доказательства человеческого происхождения языка.
Но язык и мышление не существуют изолированно для каждого отдельного человека. Напротив, все языки представляют собой уходящее в историю единство, они соединяют мир. Их многообразие служит умножению и оживлению движения идей. Вечно обновляющийся и меняющийся род человеческий передает это драгоценное, доступное всем приобретение в наследство потомкам, которые обязаны сохранять его, пользоваться им и умножать полученное достояние, так как здесь усвоение и обучение непосредственно и незаметно проникают друг в друга. Младенец у материнской груди слышит первые слова, произнесенные мягким и нежным голосом; матери, и они прочно запечатлеваются в его не отягощенной ничем s памяти еще прежде чем он овладевает собственными органами речи. Поэтому язык и называется родным языком (Muttersprache), и с годами знание ребенка растет все быстрее. Только родной язык связывает нас наиболее крепкими узами с родными местами, а что применимо к отдельным народам и племенам, обладающим равным языковым своеобразием, то должно иметь силу для всего человечества. Без языка, поэзии и своевременного изобретения письменности и затем книгопечатания могли бы истощиться лучшие силы человечества. Хотели, приписать божественному указанию также и, появление у людей письменности, но ее явно человеческое происхождение, ее постоянное усовершенствование должны, если это понадобится, подтвердить и пополнить доказательства человеческого происхождения языка.
Из соотношения языков, которое дает нам более надежные данные о родстве отдельных народов, чем все исторические документы, можно сделать заключения о первобытном состоянии людей в эпоху сотворения и о происшедшем в их среде образовании языка. Человеческий дух испытывает возвышенную радость, когда он, выходя за пределы осязаемых доказательств, предчувствует то, что он может ощутить и открыть только разумом и для чего еще отсутствуют внешние подтверждения. В языках, памятники которых дошли до нас от глубокой древности, мы замечаем два различных направления развития, на основании чего необходимо должен быть сделан вывод о том, что им предшествовало третье направление, сведениями о котором мы не располагаем.
Старый языковый тип представляют санскрит и зендский язык, в большой степени также латинский и греческий языки; он характеризуется богатой, приятной, удивительной завершенностью формы, в которой все вещественные и грамматические составные части живейшим образом проникают друг в друга. В дальнейшем развитии и позднейших проявлениях тех же языков — в современных диалектах Индии, в персидском, новогреческом и романских языках— внутренняя сила и гибкость флексии по большей части утрачена и нарушена, частично с помощью различных вспомогательных средств восстановлена. Нельзя отрицать и того, что в наших германских языках, источники которых, то едва пробивающиеся, то мощно бьющие, прослеживаются на протяжении долгого времени и должны быть собраны, происходит тот же процесс утраты прежнего, более полного совершенства форм, а замена утраченного идет по тому же пути. Если сравнить готский язык IV в. с современным немецким языком, то там мы заметим благозвучность и энергичность, а здесь, за счет их утраты,— во много раз возросшую разработанность речи. Повсюду древняя мощь языка оказывается уменьшенной в той мере, в какой древние способности и средства замещены чем-то новым, преимущества чего также нельзя недооценивать.
Оба направления противостоят друг другу отнюдь не резко, и все языки оказываются на различных, тождественных, но не на одних и тех же ступенях развития. Например, утрата форм началась уже в готском и латинском языках, и как для того, так и для другого языка можно предположить существование предшествовавшего им более древнего и более богатого формами этапа развития, который так относится к классическому периоду их истории, как этот последний к нововерхненемецкому или французскому языку. Иными словами, мы можем сказать, обобщая, что достигнутые древним языком вершины совершенства форм не поддаются историческому установлению. Точно так же, как ныне немало приблизилось к своему завершению духовное совершенствование языка, противоположное совершенству его форм, оно не достигнет его еще в течение необозримо долгого времени. Допустимо утверждать существование более древнего состояния языка, предшествовавшего даже санскриту; в этом периоде полнота его природы и строя выражалась, вероятно, еще яснее. Но мы не можем установить его исторически и только догадываемся о нем по соотношению форм ведийского языка с более поздними.
Но пагубной ошибкой, которая, как мне кажется, и затрудняла исследование праязыка, было бы Перенесение этого совершенства форм в еще более ранние эпохи и в предполагаемую эпоху райского состояния. Из сопоставления двух последних периодов развития языка вытекает скорее, что как флексию сменяет ее собственное распадение, так и сама флексия должна была возникнуть в свое время из соединения сходных частей слов. Следовательно, необходимо предположить не две, а три ступени развития челове-
 ческого языка: первая — создание, так сказать, рост и становление корней и слов; вторая — расцвет законченной в своем совершенстве флексии; третья — стремление к ясности мысли, причем от флексии вследствие ее неудовлетворительности снова отказываются; и если в первый период связь слов и мысли происходила примитивно, если во второй период были достигнуты великолепные образцы этой связи, то в дальнейшем она, с прояснением разума, устанавливается еще более сознательно. Это подобно периодам развития листвы, цветения и созревания плодов, которые по законам природы сопутствуют друг другу и сменяют друг друга в неизменной последовательности. Сам факт обязательного существования первого, неизвестного нам периода, предшествовавшего двум другим, известным нам, как мне кажется, полностью устраняет ложные представления о божественном происхождении языка, потому что божьей мудрости противоречило бы насильственное навязывание того, что должно свободно развиваться в человеческой среде, как было бы противно его справедливости позволить дарованному первым людям божественному языку терять свое первоначальное совершенство у потомков. Язык сохраняет все, что в нем есть божественного, потому что божественное присутствует в нашей природе и в нашей душе вообще.
ческого языка: первая — создание, так сказать, рост и становление корней и слов; вторая — расцвет законченной в своем совершенстве флексии; третья — стремление к ясности мысли, причем от флексии вследствие ее неудовлетворительности снова отказываются; и если в первый период связь слов и мысли происходила примитивно, если во второй период были достигнуты великолепные образцы этой связи, то в дальнейшем она, с прояснением разума, устанавливается еще более сознательно. Это подобно периодам развития листвы, цветения и созревания плодов, которые по законам природы сопутствуют друг другу и сменяют друг друга в неизменной последовательности. Сам факт обязательного существования первого, неизвестного нам периода, предшествовавшего двум другим, известным нам, как мне кажется, полностью устраняет ложные представления о божественном происхождении языка, потому что божьей мудрости противоречило бы насильственное навязывание того, что должно свободно развиваться в человеческой среде, как было бы противно его справедливости позволить дарованному первым людям божественному языку терять свое первоначальное совершенство у потомков. Язык сохраняет все, что в нем есть божественного, потому что божественное присутствует в нашей природе и в нашей душе вообще.
Наблюдая язык только в той форме, в которой он является в последнем периоде, никогда нельзя приблизиться к тайне его происхождения, и тех исследователей, которые хотят вывести этимон какого-нибудь слова с помощью данных современного языка, обыкновенно постигает неудача, так как они не только не в состоянии отделить формант от корня, но и определить его вещественное значение.
Как кажется, вначале слова развивались без помех, в идиллической обстановке, не подчиняясь ничему, кроме своей естественной, указанной чувством последовательности; они производили впечатление ясности и непринужденности, но в то же время были слишком перегружены, так что свет и тень не могли в них как следует распределиться х. Но постепенно бессознательно действующий дух языка перестает придавать столь большое значение побочным понятиям, и они присоединяются к основному представлению в качестве соопределяющих частей в укороченном и как бы облегченном виде. Флексия возникает из сращивания направляющих и подвижных определительных слов, они, подобно наполовину или почти полностью скрытым колесам, увлекаются основным словом, которое они приводят в движение; они также сменили свое перво-
 1 Можно сказать, пожалуй, что лишенный флексий китайский язык в известной мере застыл в первом периоде образования. (Примечание автора.)
1 Можно сказать, пожалуй, что лишенный флексий китайский язык в известной мере застыл в первом периоде образования. (Примечание автора.)
Мнение о том, что лишенный флексий китайский язык застыл на начальном периоде развития, отражает широко распространенный в первой половине XIX в. взгляд, в соответствии с которым отдельные морфологические типы языков представляют собой стадии развития единого языкового процесса. Эта точка зрения не учитывает своеобразия путей развития языков. (Примечание составителя.)
начально вещественное значение на абстрактное, сквозь которое лишь иногда просвечивает прежнее значение. Но в конце концов и флексия изнашивается и превращается в совершенно неощутимый знак; тогда снова прибегают к помощи того же механизма, но применяют его извне и с большей определенностью; язык теряет часть своей эластичности, но повсюду приобретает правильную меру для бесконечно возросшего богатства мыслей.
Только после удачного выделения флексии и расчленения производных слов — что явилось великой заслугой проницательного ума Боппа — были выделены корни и стало ясно, что флексии в огромной части возникли из присоединения к корням тех самых слов и представлений, которые в третьем периоде обычно позиционно предшествуют им в качестве самостоятельных слов. В третьем периоде появляются предлоги и четко выраженные сложные слова; второму периоду свойственны флексии, суффиксы и более смелое словосложение; первый период характеризуется простым следованием отдельных слов, обозначающих вещественные представления, для выражения всех случаев грамматических отношений. Древнейший язык был мелодичным, но растянутым и несдержанным; язык среднего периода полон сконцентрированной поэтической силы; язык нового времени стремится заменить потерю в красоте гармонией целого и, располагая меньшими средствами, достигает большего.
Наш язык — это также наша история. Как народы и государства складываются из объединения отдельных племен, которые принимают общие нравы и законы, действуют совместно и расширяют свои владения, точно так же и обычай требует, чтобы в основе его был какой-то начальный акт, из которого выводятся все последующие и к которому все снова и снова обращаются. Продолжительность существования сообщества обусловливает затем множество
изменений.
Состояние языка в первый период нельзя назвать райским в обычно связываемом с этим словом смысле земного совершенства, так как язык живет почти растительной жизнью, когда драгоценные дары духа еще дремлют или пробуждены только наполовину. Я позволю себе обрисовать это положение «следующим образом.
Проявления языка просты, безыскусственны, полны жизни, подобны быстрому обращению крови в молодом теле. Все слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и простых согласных; слова теснятся густой толпой, как стебли травы. Все понятия возникают из чувственно ясного созерцания, которое уже само было мыслью и от которого во все стороны распространялись элементарные новые мысли. Соотношения слов и представлений наивны и свежи, но выражаются без прикрас последующими, еще не присоединенными словами. С каждым своим шагом общительный язык развертывает свое бо-
61

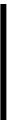 гатство и способности, но в целом он производит впечатление лишенного меры и Стройности. Мысли, выражаемые им, не обладают постоянностью и неизменностью, поэтому язык на самой ранней стадии не оставляет памятников духа и исчезает, как исчезла и счастливая жизнь древнейших людей, не оставив следов в истории. Но в почву упало бесчисленное множество семян, подготовляющих новый период.
гатство и способности, но в целом он производит впечатление лишенного меры и Стройности. Мысли, выражаемые им, не обладают постоянностью и неизменностью, поэтому язык на самой ранней стадии не оставляет памятников духа и исчезает, как исчезла и счастливая жизнь древнейших людей, не оставив следов в истории. Но в почву упало бесчисленное множество семян, подготовляющих новый период.
В этом периоде умножаются все звуковые законы. Из велико* лепных дифтонгов и их преобразования в долгие гласные возникает наряду с господствующим пока обилием кратких гласных благозвучное чередование; таким образом, и согласные, не разделяемые более повсюду гласными, сталкиваются друг с другом и увеличивают силу и мощь выражения. С более тесным соединением отдельных звуков частицы и вспомогательные глаголы начинают сближаться, и, в то время как их собственное значение постепенно ослабевает, они начинают объединяться с тем словом, которое они должны определять. Вместо трудно обозримых при уменьшившейся силе чувства отдельных понятий и бесконечных рядов слов возникают благотворно действующие периоды нарастания и моменты покоя, которые выделяют существенное из случайного, определяющее из соподчиненного. Слова становятся более длинными и многосложными, из свободного расположения слов образуется множество сложных слов. Как отдельные гласные становились компонентами дифтонгов, так и отдельные слова превращаются во флексии, и, подобно дифтонгу в редукции, составные части флексии становятся неузнаваемыми, но тем более удобными для употребления. К неощущающимся суффиксам присоединяются новые, более четкие. Язык в целом еще эмоционально насыщен, но в нем все сильнее проявляется мысль и все, что с нею связано; гибкость флексии обеспечивает бурный рост числа живых и упорядоченных выражений. Мы видим, что в это время язык наилучшим образом приспособлен для стихосложения и поэзии, которым необходимы красота, благозвучность и изменчивость формы; и индийская, и греческая поэзия указывают нам в бессмертных творениях на вершины, достигнутые ими в свое время и недостижимые впоследствии.
Но так как человеческая природа, а следовательно, и язык находятся в состоянии вечного неудержимого подъема, то законы этого второго периода развития языка не могли удовлетворять все времена, но должны были уступить стремлению к еще большей свободе мысли, которую, как казалось, сковывали даже прелесть и сила совершенной формы. Как бы мощно ни сплетались слова и мысли в хорах трагиков или одах Пиндара, все же при этом возникало нарушающее ясность чувство напряжения, которое еще сильнее ощущается в индийских сложных периодах, где образы нагромождаются друг на друга; дух языка стремился освободиться от гнета действительно подавляющей формы, поддаваясь влиянию простонародных оборотов, которые при всех переменах в судьбе народов снова оказывались на поверхности и опять проявляли свои
плодотворные качества. В противовес приходящей в упадок со времени введения христианства латыни развивались на иной основе романские языки и рядом с ними со временем встали немецкий и английский языки, которые к своим древнейшим средствам присоединили новые, обусловленные в своем возникновении ходом истории. Чистота гласных была давно нарушена умляутом, преломлением и прочими неизвестными древности явлениями, системе наших согласных пришлось испытать перебои, искажения и отвердение. Можно сожалеть о том, что чуть не произошло распадение всей системы звуков вследствие ее ослабления; однако никто не будет отрицать, что с возникновением промежуточных звуков были неожиданно созданы новые вспомогательные средства, которые можно было широко использовать. Благодаря этим звуковым изменениям множество корней утратило прежний облик; с тех пор они существуют не в своем первоначальном вещественном значении, но только для обозначения отвлеченных представлений; большая часть прежних флексий навсегда погибла и заменилась частицами, более богатыми по своим возможностям и более подвижными, которые даже превосходят флексию, потому что мысль выигрывает, кроме верности, и в том, что она может быть выражена более многообразно. Четыре или пять падежей греческого или латинского языков, кажется, располагают меньшими возможностями, чем четырнадцать падежей финского языка, но все же последний достигает гораздо меньшего при всей своей скорее видимой, чем действительной гибкости; так и наши новые языки утратили в целом меньше, чем можно было бы подумать, наблюдая, как исключительно богатые формы греческого глагола или остаются в них невыраженными, или, там где это нужно, заменяются описательными оборотами.
 Языки очутились не под властью вечного и неизменного закона природы, подобного законам света и тяжести, но попали в умелые руки людей; они то быстро развивались с расцветом народов, то задерживались в своем развитии в результате варварства тех же народов, то переживая пору радостного расцвета, то прозябая в скудных условиях. Только в той мере, в какой наш род (при противоборстве свободы и необходимости) подлежит вообще неизбежным влияниям находящейся вне его силы, можно говорить о наличии в человеческом языке явлений колебаний, испарения или тяготения.
Языки очутились не под властью вечного и неизменного закона природы, подобного законам света и тяжести, но попали в умелые руки людей; они то быстро развивались с расцветом народов, то задерживались в своем развитии в результате варварства тех же народов, то переживая пору радостного расцвета, то прозябая в скудных условиях. Только в той мере, в какой наш род (при противоборстве свободы и необходимости) подлежит вообще неизбежным влияниям находящейся вне его силы, можно говорить о наличии в человеческом языке явлений колебаний, испарения или тяготения.
Но какие бы картины ни открывались перед нашим взором при изучении истории языка, повсюду видны живое движение, твердость и удивительная гибкость, постоянное стремление ввысь и падения, вечная изменчивость, которая никогда еще не позволяла достичь окончательного завершения; все свидетельствует нам о том, что язык является произведением людей и несет на себе отпечаток добродетелей и недостатков нашей натуры. Однообразие языка немыслимо, так как для всего вновь вырастающего и возни-
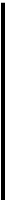 кающего нужен простор, которого не требуется только при спокойном существовании. Функционируя в течение необозримо долгого времени, слова окрепли и отшлифовались, но в то же время истерлись и частично исчезли в силу случайных обстоятельств. Как листья с дерева, падают они со своих ветвей на землю и вытесняются вырастающими рядом с ними новыми; те, которые отстояли свое существование, так часто меняли свой облик и значение, что их едва можно узнать. Но в большинстве случаев потерь и утрат обычно почти одновременно и сами собой появляются образования, заменяющие и компенсирующие утраченное. Ничто не ускользает от спокойного взора бодрствующего духа языка, который в короткое время залечивает все раны и противодействует беспорядку; только одним языкам он выражает все своё благоволение, а к другим он благоволит в меньшей степени. Если угодно, это также проявление основной природной силы, которая возникает из неисчерпаемого источника врожденных нам первоначальных звуков, соединяется со строем человеческого языка, заключая каждый язык в свои объятия. Отношение способности издавать звуки к способности говорить такое же, как отношение тела к душе, которую в средние века метко называли госпожой, а тело — камеристкой. Из всех человеческих изобретений, которые люди тщательно охраняли и по традиции передавали друг другу, которые они создали в согласии с заложенной в них природой, язык, как кажется, является величайшим, благороднейшим и неотъемлемейшим достоянием. Возникнув непосредственно из человеческого мышления, приноравливаясь к нему, идя с ним в ногу, язык стал общий достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись, как не могут обойтись без воздуха, и, на которое все они имеют равное право; язык — приобретение, которое дается нам одновременно легко и трудно. Легко, потому что особенности языка с детских лет запечатлеваются в нас и мы незаметно овладеваем даром речи, так же как усваиваем друг от друга различные жесты, оттенки которых бесконечно схожи и различны, подобно оттенкам языка. Язык принадлежит нам всем, и все же в высшей степени трудно в совершенстве овладеть им и постичь его самые сокровенные глубины. Огромное большинство удовлетворяется примерно только половиной или еще меньшей частью всего запаса слов.
кающего нужен простор, которого не требуется только при спокойном существовании. Функционируя в течение необозримо долгого времени, слова окрепли и отшлифовались, но в то же время истерлись и частично исчезли в силу случайных обстоятельств. Как листья с дерева, падают они со своих ветвей на землю и вытесняются вырастающими рядом с ними новыми; те, которые отстояли свое существование, так часто меняли свой облик и значение, что их едва можно узнать. Но в большинстве случаев потерь и утрат обычно почти одновременно и сами собой появляются образования, заменяющие и компенсирующие утраченное. Ничто не ускользает от спокойного взора бодрствующего духа языка, который в короткое время залечивает все раны и противодействует беспорядку; только одним языкам он выражает все своё благоволение, а к другим он благоволит в меньшей степени. Если угодно, это также проявление основной природной силы, которая возникает из неисчерпаемого источника врожденных нам первоначальных звуков, соединяется со строем человеческого языка, заключая каждый язык в свои объятия. Отношение способности издавать звуки к способности говорить такое же, как отношение тела к душе, которую в средние века метко называли госпожой, а тело — камеристкой. Из всех человеческих изобретений, которые люди тщательно охраняли и по традиции передавали друг другу, которые они создали в согласии с заложенной в них природой, язык, как кажется, является величайшим, благороднейшим и неотъемлемейшим достоянием. Возникнув непосредственно из человеческого мышления, приноравливаясь к нему, идя с ним в ногу, язык стал общий достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись, как не могут обойтись без воздуха, и, на которое все они имеют равное право; язык — приобретение, которое дается нам одновременно легко и трудно. Легко, потому что особенности языка с детских лет запечатлеваются в нас и мы незаметно овладеваем даром речи, так же как усваиваем друг от друга различные жесты, оттенки которых бесконечно схожи и различны, подобно оттенкам языка. Язык принадлежит нам всем, и все же в высшей степени трудно в совершенстве овладеть им и постичь его самые сокровенные глубины. Огромное большинство удовлетворяется примерно только половиной или еще меньшей частью всего запаса слов.
А. ШЛЕЙХЕР






