«Владимир Соловьев явился ключевой фигурой в истории русской философии, и его творческая деятельность стала основой того интеллектуального расцвета, который произошел в начале XX века и придал русской философии статус самобытной национальной школы, оказывающей существенное влияние на развитие европейской мысли» (Евлампиев. История, с. 179).
12 Заказ №1228 177
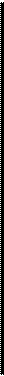 Круг четвертый — Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый— Век девятнадцатый
 Это мнение о Владимире Сергеевиче Соловьеве (1853—1900), высказанное современным философом, очень точно соответствует мнению профессионального философского сообщества, придерживающегося взгляда на философию как на науку. Соловьев действительно способствовал «интеллектуальному» расцвету, а русская философия после него обрела «статус национальной» и, я бы сказал, не самобытной, а аутентичной школы.
Это мнение о Владимире Сергеевиче Соловьеве (1853—1900), высказанное современным философом, очень точно соответствует мнению профессионального философского сообщества, придерживающегося взгляда на философию как на науку. Соловьев действительно способствовал «интеллектуальному» расцвету, а русская философия после него обрела «статус национальной» и, я бы сказал, не самобытной, а аутентичной школы.
Иными словами, Соловьев так сильно хотел быть человеком западным, что вызвал к себе уважение у всего научного сообщества. Некоторые его работы, вроде «Русской идеи» — доклада, прочитанного им в 1888 году в Париже на французском языке, — можно считать манифестом русской интеллигенции, как класса профессоров, призванных подчинить Россию Западному Разуму. Смысл жизни интеллигента — проводника и внедрителя западного образа жизни — для Соловьева превращался в религиозную миссию, своего рода повторение пути Христа.
Кому предназначалось быть Христом? Вряд ли интеллигенту, скорее, он должен был лишь отвести истинную жертву — русский народ — на алтарь Европы для заклания, как это наконец свершилось в России в начале третьего тысячелетия.
«Чтобы удержать и проявить характер России, нам нужно окончательно отречься от ложного божества нашего века и принести в жертву истинному Богу наш национальный эгоизм» (Соловьев. Русская идея, с. 34).
Русский путь не может не быть христианским, а значит, жертвенным. Поэтому России необходимо покаяться в исторических грехах, отречься от «национального эгоизма» и присоединиться к христианской Европе, начав «для начала» с принесения в жертву на «алтарь Вселенской Церкви» того, что было той самой самобытностью Руси. Итогом должно было стать объединение всех христианских народов под эгидой папы Римского.
Естественно, в России Соловьева не любили все, кроме интеллигентов, которые его боготворили и считали вдохновителем всего творческого и заду-ховного. Блок именно под его влиянием создал свою мифологию прекрасной незнакомки. Правда, это было уже связано с мистическими откровениями Соловьева, в которых ему являлась София — мудрость Божия...
Владимир Соловьев — слишком сложная фигура, чтобы можно было о нем судить вот так, походя. Поэтому я выказываю лишь некоторое сомнение в его действительном значении для русской философии, считая, что изрядное влияние на людей оказала и «хорошо поставленная реклама», условно говоря. Как-то он так удачно попал в струю, что выразил настроения подымавшейся интеллигенции и стал ее кумиром. В итоге, его значение для русской культуры оказалось действительно велико.
При этом и с точки зрения философии, и с точки зрения науки о душе, ничего действительно выдающегося им сделано не было, а произведения его до самой смерти полны погоней за модными течениями европейской мысли. Именно это его стремление во всем быть впереди России всей ярко выразится в обиде, которую он нанес своему другу и почитателю Льву Лопатину. О ней Глава 5. Дух осуществившийся. Соловьев
 я расскажу дальше, но выбор между: быть самым модным или понимать глубоко, — совершался Владимиром Соловьевым всегда в сторону моды и прогресса...
я расскажу дальше, но выбор между: быть самым модным или понимать глубоко, — совершался Владимиром Соловьевым всегда в сторону моды и прогресса...
Что же касается его понятия души, то оно скучно, непонятно, но заумно и задуховно. Его обязательно надо описать, потому что именно оно, я думаю, загнало русскую философию в тот порочный круг, который привел ее к полному истощению науки о душе, о чем кричал в 1916 году Семен Франк. Вся послесоловьевская философия России, так или иначе, использует его понятие души и в итоге оказывается вынуждена отказаться от исследований в этом направлении, потому что иначе пришлось бы отречься от своего кумира.
А Соловьев был кумиром всего последующего поколения философов начиная с двадцати пяти лет, потому что в 1878 году отчитал в Петербурге цикл публичных лекций с названием «Чтения о Богочеловечестве». Эти чтения «собирали множество слушателей и имели большой общественный резонанс» (Гайденко. Соловьев, с. 454), потому что Володя Соловьев уже с двадцати лет считался настоящим русским гением философии, и на него советовали сходить, чтобы потом можно было сказать, что видел живого гения.
Именно в этих чтениях была заложены главные понятия всего нового философского направления России — всеединство и софиология, которые будут развивать все самые известные и модные философы последующих поколений. Здесь же и будет дано им самое развернутое понятие о душе. В последующих работах Соловьев будет скучно использовать картезианскую точку «я» вместо души, не останавливаясь на этой избитой для него теме подробно.
Какое же понятие души используется в «Чтениях о Богочеловечестве»?
Упоминаний души немного. Я приведу их почти все. В Седьмом чтении душа поминается впервые как «субъект бытия».
«Итак, мы имеем трех особенных субъектов бытия, из коих каждому принадлежат все три основные способы бытия, но только в различном отношении. Первый субъект представляет и чувствует лишь поскольку хочет, что уже необходимо следует из его первоначального значения. Во втором, имеющем уже первого перед собою, преобладает объективный элемент представления, определяющая причина которого есть первый субъект: воля и чувство подчинены здесь представлению, — он хочет и чувствует лишь поскольку представляет- наконец, в третьем субъекте, имеющем уже за собою и непосредственно-творческое бытие первого и идеальное бытие второго, особенное или самостоятельное значение может принадлежать только реальному или чувственному бытию: он представляет и хочет лишь поскольку ощущает. Первый субъект есть чистый дух, второй есть ум (Нус), третий, как дух осуществляющийся или действующий в другом, может быть в отличие от первого назван душою» (Соловьев. Чтения, с. 108-109). 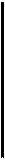 Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 Итак, душа — это дух, осуществляющийся или действующий в другом...
Итак, душа — это дух, осуществляющийся или действующий в другом...
Само понятие духа чуть далее Соловьев попробует свести к такому модному тогда понятию «организм», да еще состоящий из не менее модных «элементов».
«Вечный Бог вечно осуществляет Себя, осуществляя Свое содержание, то есть осуществляя все. Это "все"в противоположность сущему Богу, как безусловно единому, есть множественность, но множественность как содержание безусловно-единого, как осиленная единым, как сведенная к единству.
Множественность, сведенная к единству, есть целое. Реальное целое есть живой организм. Бог как сущее, осуществившее свое содержание, как единое, заключающее в себе всю множественность, есть живой организм.
Мы видели уже, что "все ", как содержание безусловного начала, не может быть простою суммою отдельных безразличных существ, что эти существа каждое представляет свою особенную идею, выражающуюся в гармоническом отношении ко всему остальному и что, следовательно, каждое есть необходимый орган всего.
На этом основании мы и можем сказать, что "все ", как содержание безусловного, или что Бог, как осуществивший Свое содержание, есть организм» (Там же, с. 113).
Только что отгремели споры философов с физиологами, словечко «организм» было модным, почти как «экспроприация экспроприаторов» полвека спустя. Как, должно быть, льстило охочей до зрелищ толпе то, что она слушает «настоящую!» философию, а при этом может о ней говорить физиологично! Бог есть организм! А организм — наш Бог!
Это увело бы в сторону, если бы не необходимость дать общее представление о том, в рамках чего Соловьев говорил о душах. В сущности, разговор о душе оказывается возможным, рождаясь из разговора о «содержании Бога», ибо именно оно воплощается в мир.
«Таким образом мы имеет три разряда живых сил, образующие три сферы божественного мира.
Первого рода индивидуальные силы, в которых преобладает начало воли, можно назвать чистыми духами; второго рода силы можно называть умами; третьего рода — душами.
Итак, божественный мир состоит из трех главных сфер: сферы чистых духов, сферы умов и сферы душ» (Там же, с. 117).
Понимать ли здесь сферы как сферы, то есть шары, или же это лишь модное словечко, означающее что-то вроде миров, или даже просто деление на разряды или роды, я не знаю. Но все они «находятся в тесной и неразрывной связи между собою, представляют полное внутреннее единство или солидарность между собою...» (Там же).
С этой «солидарностью» потом долго и невкусно будет мучиться Иван Ильин. Что может значить «солидарность между сферами», я угадать не берусь, но впечатляет. А Володя Соловьев умел произвести впечатление. Думаю, что как раз это место его Чтений было одним из самых действенных, Глава 5. Дух осуществившийся. Соловьев
 к тому же он заканчивает Седьмое чтение стихами, напоминающими Пушкинского «Пророка», тем самым как бы заявляясь на владение задуховной, почти божественной истиной:
к тому же он заканчивает Седьмое чтение стихами, напоминающими Пушкинского «Пророка», тем самым как бы заявляясь на владение задуховной, почти божественной истиной:
«И просветлел мой темный взор, И стал мне виден мир незримый, И слышит ухо с этих пор, Что для других неуловимо...»
Безусловно, многое из сказанного Соловьевым страдает этой самой пророческой болезнью «вещания». Откуда-то сочинителю известно про эти силы и сферы, про то, как они устроены, кто в них находится, как соотносятся между собою неведомые обитатели этих неведомых миров... Да и сама «душа мира или идеальное человечество (София), которое содержит в себе и собою связывает все особенные живые существа или души» (Там же, с. 140), ему ведома! Не иначе, как за этим человеком есть некое мистическое присутствие, иначе откуда же набраться смелости для подобных речей!
Соловьев был учеником Юркевича, о котором я расскажу в разделе философии религиозной. Юркевич считается сильнейшим философом до Соловьева. Правда, это лишь мнение научного сообщества, особенно разогретое самим Соловьевым и Шпетом. На деле самой известной работой Юркевича оказалось раннее сочинение о сердце как средоточии душевной жизни. Сочинение это философски еще слабое, но давшее ему известность, потому что в самом упоминании сердечности для русского человека есть нечто манящее.
Самое главное, что проявилось в нем, — это стремление свести все чарующие образы, рождаемые в воображении читателя этим захватывающим разговором о том, как осуществляется духовная деятельность души, к библейским корням. Так она и названа — библейская психология, которая, на поверку, оказывается иудаистической, потому что по преимуществу опирается у Юркевича не на Евангельские тексты.
Соловьев, очевидно, тоже переиграл сам себя, замахнувшись на недоступные высоты мистического созерцания, и вынужден в Десятом чтении свести все свои построения о душе к той же иудейской основе. Я просто приведу последнее упоминание души, которое он делает, целиком. Тут он забывает, что говорил о душах как силах в Седьмом чтении, очевидно, понимая теперь душу как-то по бытовому. Но наслаждайтесь сами.
«Итак, для того, чтобы божественное начало действительно одолело злую волю и жизнь человека, необходимо, чтобы оно само явилось для души как живая личная сила, могущая проникнуть в душу и овладеть ею; необходимо, чтобы божественный Логос не влиял только на душу извне, а родился в самой душе, не ограничивая и не просвещая, а перерождая ее. И так как душа в природном человечестве является актуально лишь в множественности индивидуальных душ, то и действительное соединение божественного начала с душою необходимо имеет индивидуальную форму, то есть божественный Логос рождается как действительный индивидуальный человек. Как в мире физическом божественное 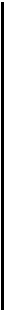 Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 начало единства проявляется сперва как сила тяготения, слепым влечением связывающая тела, потом как сила света, обнаруживающая их взаимные свойства, и наконец как сила органической жизни, в которой образующее начало проникает материю и после длинного ряда образований рождает совершенный физический организм человека, так точно и в следующем за сим процессе божественное начало сперва силою духовного тяготения связывает отдельные человеческие существа в родовое единство, затем просвещает их идеальным светом разума, и наконец, проникая внутрь самой души и органически, конкретно с нею соединяясь, рождается как новый духовный человек. И как в мире физическом появлению совершенного организма человеческого предшествовал длинный ряд несовершенных, но все же органических живых форм, так и в истории рождение совершенного духовного человека предварялось рядом неполных, но все же живых личных откровений божественного начала человеческой душе. Эти живые откровения живого Бога мы находим (по преимуществу) у народа Иудейского» (Там же, с. 159).
начало единства проявляется сперва как сила тяготения, слепым влечением связывающая тела, потом как сила света, обнаруживающая их взаимные свойства, и наконец как сила органической жизни, в которой образующее начало проникает материю и после длинного ряда образований рождает совершенный физический организм человека, так точно и в следующем за сим процессе божественное начало сперва силою духовного тяготения связывает отдельные человеческие существа в родовое единство, затем просвещает их идеальным светом разума, и наконец, проникая внутрь самой души и органически, конкретно с нею соединяясь, рождается как новый духовный человек. И как в мире физическом появлению совершенного организма человеческого предшествовал длинный ряд несовершенных, но все же органических живых форм, так и в истории рождение совершенного духовного человека предварялось рядом неполных, но все же живых личных откровений божественного начала человеческой душе. Эти живые откровения живого Бога мы находим (по преимуществу) у народа Иудейского» (Там же, с. 159).
Через десять лет, в той самой «Русской идее», Соловьев как бы подтвердит свою зависимость в глубинных прозрениях от иудейского источника, как хранилища своих знаний об устройстве ТЕХ миров. Во всяком случае, это для меня определенно звучит вот в таких высказываниях: «Если в философии истории вообще есть твердо установленные истины, то таковой следует считать то положение, что конечное призвание еврейского народа, истинный смысл его существования существенно связаны с мессианской идеей, то есть с идеей христианской.
Я не хочу обращаться с избитыми упреками к этому единственному в своем роде и таинственному народу, который в конце концов ведь есть народ пророков и апостолов, народ Иисуса Христа и Пресвятой Девы» (Соловьев. Русская, с. 7—8).
Что я хочу сказать этими выдержками? Перед тем, как создать «Чтения о богочеловечестве» Соловьев жил в Лондоне, где изучал гностиков и мистику. Потом резко сорвался и уехал в Египет, где у него были видения Софии. А после этого он стал «видеть и вещать», точно библейский пророк. При этом говоря вещи, которые не выводились из его собственных исследований и не узнавались русской культурой.
Я не проводил исследований, да и не хочу их проводить, но вот такая оторванность от корней и исходная задуховность понятия о душе, меня смущает и заставляет искать источники образов. И единственное, что узнается мною, — это кабалистика. Боюсь, что именно она была тем духом, что вдохнул вдохновение в душу юного Володи Соловьева. Но при этом он не назвал ее прямо, а творчески, очень творчески переработал.
Однако, любые прозрения на природу таких явлений, как душа, должны либо иметь соответствия с действительностью, либо их не иметь. И если эти соответствия есть, но их скрыть, то образы будут захватывать воображение, но жизненной силы в них не будет. Вот именно это и случилось, на мой Глава 6. Мировая душа. С. Н. Трубецкой
 взгляд, со всей той волной русской философии, что выросла из иудейских штудий юного гения. Ничто свое, родное, не могло противостоять новой модной школе, потому что люди тянулись к ней, как к захватывающему зрелищу. А та новая философия, что пыталась использовать ее, как свою почву, постепенно оказывалась истощенной и опустошенной. Сочинения последователей превращались в заумь, как превратилась в заумь та поэзия, что была вызвана влиянием Соловьева.
взгляд, со всей той волной русской философии, что выросла из иудейских штудий юного гения. Ничто свое, родное, не могло противостоять новой модной школе, потому что люди тянулись к ней, как к захватывающему зрелищу. А та новая философия, что пыталась использовать ее, как свою почву, постепенно оказывалась истощенной и опустошенной. Сочинения последователей превращались в заумь, как превратилась в заумь та поэзия, что была вызвана влиянием Соловьева.
Сначала родилась мистическая волна русского серебряного века, потом заумь абериутов, Велимира Хлебникова, а потом, как ответ на унижения всем хвастливым умникам, — революционная частушка и высылка философов из страны. Конечно, это не Соловьев виноват во всех бедах России, но он определенно приложил руку к тому, что наша философия начала двадцатого века перестала говорить о душе, потому что уже не могла удерживать тот мистический накал, что он задал. Для этого надо было быть либо мистиками, либо же иметь сами источники, из которых черпались исходные образы.
Но он лишил своих последователей и того, и другого. Источники он скрыл, а в мистику не пустил и не пошел, потому что хотел выглядеть очень научным и очень современным.
Как было бы хорошо, если я ошибся...






