На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.
Так случилось, что вещие слова Корнфельда — были его по- следние слова на земле. И, обращённые ко мне, они легли на ме- ня наследством. От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.
Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.
Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы при- знать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, — расстрелян- ные, сожжённые — это некие сверхзлодеи. (А между тем — не- винных-то и казнят ретивее всего.) И что´ бы тогда сказать о на- ших явных мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют?
(Это решилось бы только тем, что смысл земного существова- ния — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз.
С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие —
обещает.)
Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.
————————
В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам.
Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасыва- ет на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.
Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становит- ся злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощу- щал себя непогрешимым и оттого был жесток. В самые злые мо- менты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе пер- вое шевеление добра.
Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвиж- на, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрей- шем сердце — неискоренённый уголок зла.
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уни- чтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, ещё увеличен- ным, берут себе в наследство.
К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он уби- вал саму злую идею, очень мало — заражённых ею людей. (Ко- нечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше
растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку чело- вечество не взорвёт и не удушит себя — может быть, это направ- ление и восторжествует?..
Да если оно не восторжествует — то вся история человечест- ва будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.
«Познай самого себя»*. Ничто так не способствует пробужде-
нию в нас всепонимания, как теребящие размышления над соб- ственными преступлениями, промахами и ошибками.
Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:
— Благословение тебе, тюрьма!
Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:
— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!
(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

* Надпись на Храме Аполлона в Дельфах как призыв к каждому входяще- му. — Примеч. ред.
Г л а в а 2
ИЛИ РАСТЛЕНИЕ?
Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхож- дения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу.
Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже всё написано) возразит Шаламов:
«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людь- ми, лагеря не для этого созданы».
«Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов... Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство».
«Мы поняли, что правда и ложь — родные сёстры».
«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми возникает — значит, условия не- достаточно трудны. Если беда и нужда сплотили — зна- чит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубо- ко, если можно разделить его с друзьями».
Только на одно различение здесь согласится Шаламов: вос- хождение, углубление, развитие людей возможно в тюрьме. А
«...лагерь — отрицательная школа жизни целиком и пол- ностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вы- несет. Заключённый обучается там лести, лганью, мел- ким и большим подлостям... Возвращаясь домой, он ви- дит, что не только не вырос за время лагеря, но интере- сы его стали бедными, грубыми».
С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «Тюрьма воз- вышала людей, лагерь растлевал».
Да и как же тут возразить?
Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагер- ное «возвышение», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять про- тив лагерной философии, выраженной джезказганским Яшкой-
нарядчиком: «Чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать».
До какого «душевного лишая» можно довести лагерников со- знательным науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке Моисеевайте (но по-прежнему водимая кон- воем на работу), не замечая оцепления, пошла «к маме». Её схва- тили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный приём). Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из-за тебя, сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась.
Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они — всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это — общее направление, это — закономерность.
Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолажива- ет. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз дер- жат тепло.
Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность. Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы
заставлять работать других.
А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не ста- нете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может из- бежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой- то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба всё-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) ис- тые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже заме- чали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молча- ливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемёта па- дают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твёр- дость, не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тётя Дуся Чмиль — кругло- лицая спокойная совсем неграмотная старушка. Окликает конвой:
— Чмиль! Статьи!
Она мягко незлобливо отвечает:
— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. — (У неё — букет из пунктов 58-й.)
 Глава 2 — ИЛИ РАСТЛЕНИЕ? 341
Глава 2 — ИЛИ РАСТЛЕНИЕ? 341
— Срок!
Вздыхает тётя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве людям дано знать сроки?..
— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду.
— Дура ты дура! — смеётся конвой. — Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, ещё, может, и больше.
Но проходит два с половиной года её срока, никуда она не пишет — и вдруг бумажка: освободить!
Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что «монашек» только и дер- жали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А меж- ду тем кто из верующих — растлился? Умирали — да, но — не растлились?
А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лаге- ре обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными? И многие ещё, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо, — но рядом ещё хуже, ещё
тяжелей.
Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идео- логия «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?
Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащён был ни- какой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Слу- чай — вовсе не теоретический, за советское пятидесятилетие таких-то и выросли — миллионы.)
Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.
Тот конвойный офицер, который велел привязать Мои- сеевайте к столбу для глумления, — он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?
И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады — лишь по два человека? Да наверное так.
Если человек в лагере круто подлеет, так может быть: он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему рань- ше просто не было нужды?
И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде во- обще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде, — да
не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспи- тании наших десятилетий?
Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама — и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя?
Если уж растление так неизбежно, то откуда берётся Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освобо- дился и жил вольняшкой на Воркуте, только-только начинал пол- зать без конвоя и обзаводиться первым гнёздышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые сро- ки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержать- ся? Как быть понезаметнее? Но арестован Я. Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — бесстрашно носит переда- чи! Хотите, псы, — гребите и меня!
Отчего же этот не растлился?
А все уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту?
Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять.
Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время вос- станавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения. Они — рядом.
Г л а в а 3
ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ
Но и когда уже будет написано, прочтено и понято всё главное об Архипелаге ГУЛАГе, — ещё поймут ли: а что´ была наша воля? Что´ была та страна, которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?
Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской ку- лак. Эта опухоль мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем была она ужас- на, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла всё тело.
Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда-нибудь — Бог весть.
Это — не задача нашей книги, но попробуем коротко пере- числить те признаки вольной жизни, которые определялись сосед- ством Архипелага или составляли единый с ним стиль.
Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни 35-м, ни 37-м, ни 49-м годами не исчерпаешь перечня наборов на Архи- пелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не уми- рали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовы- вали. Как на Архипелаге под каждым придурком — пропасть (и гибель) общих работ, так и в стране под каждым жителем — пропасть (и гибель) Архипелага. По видимости страна много больше своего Архипелага — но вся она, и все её жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом.
Страх — не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные: чистка, проверка, заполнение анкеты, увольне- ние с работы, лишение прописки, высылка или ссылка*. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подсту- пающими сроками заполнения их.

* Ещё такие малоизвестные формы, как: исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаёмным. Так в 1938 был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне небла- гонадёжными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер.
Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого права.
Верно замечено: наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что многозначные слова «взяли», «посадили», «сидит», «выпустили», даже без текста, у нас каждый понимает только в одном смысле!
Ощущения беззаботности наши граждане не знали никогда.
Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие, гостеприимство (ещё не убитые и в 20-х го- дах). Эти чувства — естественная защита всякой семьи и каждо- го человека, особенно потому, что никто никуда не может уво- литься, уехать, и каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе. Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело, открыто высказываться — все отшатывались: «Провокация!» Так обречён был на одиночество и
отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест.
Всеобщее незнание. Таясь друг от друга и друг другу не ве- ря, мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной не- гласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего — и миллионных посадок, и их мас- совых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, не вопя, не сте- ня и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и ка- зённым ораторам. Каждый день нам подсовывали что-нибудь раз- жигающее, вроде железнодорожного крушения (вредительского) где-нибудь за 5 тысяч километров. А что´ надо было нам обязатель- но, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось — нам не- откуда было узнать.
Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окру- жающей жизни? Только сам захваченный капканом, с опозданием узнаёшь.
Стукачество, развитое умонепостижимо. Сотни тысяч опе- ративников в своих явных кабинетах, и в безвинных комнатах казённых зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно: сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомитель- ных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей ком- нате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опа- сались, что он есть.
Предательство как форма существования. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью человек становится дан-
ником страха, подчинённым его. И оказывается наименее опас- ной формой существования — постоянное предательство.
Самое мягкое, зато и самое распространённое предатель- ство — это ничего прямо худого не делать, но: не заметить гиб- нущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот аресто- вали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил (ты никак не мо- жешь потерять свою сегодняшнюю работу!). Вот на общем собра- нии объявляется, что исчезнувший вчера — заклятый враг наро- да. И ты, вместе с ним двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием (а то и осуждающей речью) должен показать, как ты чужд его преступ- лений (ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву! какое ты имеешь право не думать о них?). Но остались у арестованного — жена, мать, дети, может быть, по- мочь хоть им? Нет-нет, опасно: ведь это — жена врага, и мать врага, и дети врага (а твоим-то надо получить ещё долгое образование)!
Укрыватель — тот же враг! Пособник — тот же враг. Поддер- живающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замол- кает. Почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не пода- ют, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньга- ми. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне. Положение у семей арестованных было известно какое. Вспо- минает В. Я. Кавешан из Калуги: «После ареста отца от нас все бежали, как от прокажённых; мне пришлось школу бросить — затравили ребята — (растут предатели! растут палачи!), — а мать
уволили с работы. Приходилось побираться».
Одну семью арестованного москвича в 1937, мать с ребя- тишками, милиционеры повезли на вокзал — ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка (лет восьми) исчез. Милици- онеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматы- вающую высокую разножку под бюстом Сталина, и так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой — квартира опе- чатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и ма- мы — и не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили! И он сдался в детдом… Современники! Соотечественники! Узнаёте ли вы свою харю?
И это — только легчайшая ступень предательства — отстра- нение. А сколько ещё заманчивых ступеней — и какое множест- во людей опускалось по ним?
Сколько было тогда отречений! — то публичных, то печат- ных: «Я, имярек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери как от врагов советского народа». Этим покупалась жизнь.
Тем, кто не жил в то время, почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживает свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности, и те, кто держат речь на его могиле. Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой ко- лодец зла можно сорваться.
Массовая парша душ охватывает общество не мгновенно. Ещё все 20-е годы и начало 30-х многие люди у нас сохраняли душу и представления общества прежнего: помочь в беде, заступиться за бедствующих. Есть какой-то минимально необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий Аппарат. Для России оказалось нужным 20 лет.
Оценивая 1937 год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь, для воли, — этой коррозийной короной пре- дательства мы должны его увенчать: можно признать, что имен- но этот год сломил душу нашей воли и залил её массовым растлением.
Но даже это не было концом нашего общества! (Как мы ви- дим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточ- ка России дожила, дотянулась до лучших времён, до 1956, а те- перь уж тем более не умрёт.) Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми тёп- лыми жилками билось, билось, билось, билось.
В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжига- лись дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каж- дая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осуждённых (как Флоренского) или за- ведомо упречных (как философа Фёдорова)! А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Её сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрёл через весь город отнести её к сестре и так спасти.
Каждый поступок противодействия власти требовал мужества, несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Алек- сандре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа, — однако сколько же детей таких взяли, спасли (са- ми-то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была.
И кто-то же подменял жену арестованного в безнадёжной трёхсу- точной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто-то же, с ко- лотящимся сердцем, шёл предупредить, что на квартире — заса- да и туда возвращаться нельзя. А в военной цензуре (Рязань, 1941) девушка-цензорша порвала криминальное письмо неизвест- ного ей фронтовика, — но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков — и посадили её самоё. Пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека!
Теперь приудобились выражаться, что посадка была — лоте- рея. Лотерея-то лотерея, да кой-какие номерки и помеченные. За- водили общий бредень, сажали по цифровым заданиям, да, — но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту! И по- лучался душевный отбор, а не лотерея! Смельчаки попадали под топор, отправлялись на Архипелаг — и не замуча´лась картина од- нообразно-покорной оставшейся воли. Эти тихие уходы — их и совсем не приметишь. А они — умирание народной души.
Ложь как форма существования. Поддавшись ли страху или тронутые корыстью, завистью, люди, однако, не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но ещё довольно ясен ум. И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину:
«Повышая свою революционную бдительность, мы помо- жем нашей славной разведке, возглавляемой верным ле- нинцем — Сталинским Наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заве- дения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистско- бухаринской и прочей контрреволюционной мрази»*, —
мы же не примем всё совещание в тысячу человек за идиотов, а только — за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту.
Постоянная ложь становится единственной безопасной фор- мой существования, как и предательство. Каждое шевеление язы- ка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица — кем- то наблюдаемо. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешё- вых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собствен- ного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает (новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в вос-

* Первое Всесоюзное совещание работников высшей школы СССР — това- рищу Сталину // Правда. — 1938. — 20 мая. — С. 2.
кресенье или послать детей на помощь колхозникам), и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут (какие-нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае).
Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи — иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно-под- тверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак ска- зал тебе, что мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера по- глубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американ- цы, — надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг.
Но и это ещё не всё: растут твои дети. Если они уже подрос- ли достаточно, вы с женой не должны говорить при них откры- то то, что вы думаете: ведь их воспитывают быть Павликами Мо- розовыми, они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ва- ши ещё малы, то надо решить, как верней их воспитывать: сра- зу ли выдавать им ложь за правду (чтоб им было легче жить) и тогда вечно лгать ещё и перед ними; или же говорить им прав- ду — с опасностью, что они оступятся, прорвутся, и значит, тут же втолковывать им, что правда — убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой.
Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь.
Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удер- жаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки то- нущих, — как же сохранишь доброту? Моя безымянная коррес- пондентка (с Арбата, 15) спрашивает «о корнях жестокости», при- сущей «некоторым советским людям». Почему чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем бо´льшую жестокость они проявля- ют? И приводит пример — совсем вроде бы и не главный, но мы его повторим.
Зима 1943/44, челябинский вокзал, навес около камеры хра- нения. Минус 25°. Под навесом — цементный пол, на нём — утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения — женщина в ватнике, с этой стороны окна — упитан- ный милиционер в дублёном полушубке. Они ушли в игровой уха- живающий разговор. А на полу лежат два человека — в хлопча- тобумажных одежонках и тряпках цвета земли, и даже ветхими назвать эти тряпки — слишком их украсить. Это молодые ребя- та — измождённые, опухшие, с болячками на губах. Один, видно в жару, прилёг голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая по-
дошла к ним узнать, оказалось: один из них кончил срок в лаге- ре, другой сактирован, но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться в лагерь у них нет сил — истощены поносом. То- гда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут ми- лиционер оторвался от весёлого разговора и угрозно сказал ей:
«Что, тётка, родственников признала? Уходи-ка лучше отсюда, ум- рут и без тебя». И она подумала — а ведь возьмёт ни с того ни с сего и меня посадит. (И верно, отчего бы нет?) И — ушла.
Как здесь всё типично для нашего общества — и то, что´ она
подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и без- жалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и та медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаёмный дурак, который оформлял им документы в лагере.
Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове, «несчастненьким», а пожалуй, только —
«падло». В 1938 магаданские школьники бросали камнями в про- водимую колонну заключённых женщин (вспоминает Суровцева).
И можно перечислять дальше. Можно назвать ещё —
Рабскую психологию.
И ещё другое можно.
Но призна´ем уже и тут: если у Сталина это всё не само по- лучилось, а он это для нас разработал по пунктам — он таки был гений!
Г л а в а 4
НЕСКОЛЬКО СУДЕБ
[ В книге «Архипелаг ГУЛАГ» автор распылил, подчинил судьбы со- тен арестантов — плану книги, контурам Архипелага, путешествию по его островам. Он отошёл от жизнеописаний: «Это было бы слишком однообразно, так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя».
Но именно поэтому он счёл возможным привести в конце Части Четвёртой несколько арестантских судеб целиком. ]
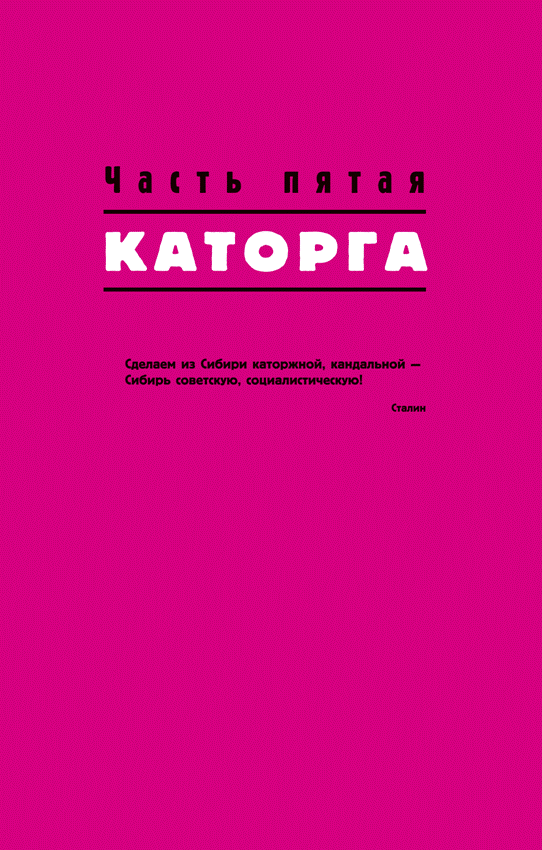


Г л а в а 1
ОБРЕЧЁННЫЕ
Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спе- шит отказаться. Например, от слова каторга. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользя- щее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждён- ному хребет, перешибает ему всякую надежду.
Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них го- сударства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «ге- нерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет по- сле того, как Февральская революция отменила каторгу, — Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года. Первыми граждан- скими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуна- лом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и ви- селицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все после- дующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречён- ные пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобереж- ной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.






