Угораздило кофейник
С вилкой в роще погулять.
Набрели на муравейник;
Вилка ну его пырять!
б. Текст делится на сегменты, равные синтагмам. Каждая из них внутри себя отмечена в логико-семантическом отношении, однако, соединение этих сегментов между собой демонстративно игнорирует правила логики:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Делярю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Делярю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Нарушение какой-либо связи представляет один из испытанных приемов ее моделирования. Напомним, что огромный шаг в теоретическом изучении языка сыграл анализ явлений афазии, а также давно отмеченный факт большой роли «перевертышей» и поэзии нонсенса в формировании логико-познавательных навыков у детей 3.
Именно возможность нарушения тех или иных связей в привычной картине мира, создаваемой здравым смыслом и каждодневным опытом, делает эти связи носителями информации. Алогизмы в детской поэзии, фантастика в сказочных сюжетах, вопреки опасениям, высказывавшимся еще в 1920-е гг. рапповской критикой и вульгаризаторской педагогикой, совсем не дезориентируют ребенка (и вообще читателя), который не приравнивает текст к жизни. «Как бывает», он знает без сказки и не в ней ищет прямых описаний реальности. Высокая информативность, способность многое сообщить заключается в сказочном или алогическом текстах именно потому, что они неожиданны: каждый элемент в последовательной цепочке, составляющей текст, не до конца предсказывает последующий. Однако сама эта неожиданность покоится на основе уже сложившейся картины мира с «правильными» семантическими связями. Когда герой пьесы Островского «Бедность не порок» затягивает шуточную песню «Летал медведь по поднебесью…», слушатели не воспринимают текст как информацию о местопребывании зверя (опасения тех, кто боится, что фантастика дезориентирует читателя, даже детского, совершенно напрасны). Текст воспринимается как смешной, а основа смеха — именно в расхождении привычной «правильной» картины мира и его описания в песне. Таким образом, алогический или фантастический текст не расшатывает, не уничтожает некоторую исходную картину связей, а наслаивается на нее и своеобразно укрепляет, поскольку семантический эффект образуется именно различием, то есть отношением этих двух моделей мира. Но возможность нарушения делает и необращенную, «правильную» связь не автоматически данной, а одной из двух возможных и, следовательно, носителем информации. Когда в народной песне появляется текст: «Зашиб комарище плечище», то соединение лексемы, обозначающей мелкое насекомое, с суффиксом, несущим семантику огромности, обнажает признак малого размера в обычном употреблении. Вне этой антитезы признак малых размеров комара дан автоматически и не ощущается.
В интересующем нас стихотворении нарушенным звеном является логичность связей. То, что привычные соотношения предметов и понятий — одновременно и логичные соотношения, обнажается для нас только тогда, когда поэт вводит нас в мир, в котором обязательные и автоматически действующие в сфере логики связи оказываются отмененными. В мире, создаваемом А. К. Толстым, между причиной и следствием пролегает абсурд. Действия персонажей лишены смысла, бессмысленны их обычаи:
Китайцы все присели,
Задами потрясли…
Лишены реального значения их клятвы и обязательства, на которые «владыко края», видимо, собирается опираться, и т. д.
Алогизм этого мира подчеркивается тем, что нелепое с точки зрения логики утверждение подается и воспринимается как доказательство: оно облечено в квазилогическую форму. Причина того, что «доселе порядка нет в земли», формулируется так:
… мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет…
Соединение понятий молодости и пяти тысяч лет читателем воспринимается как нелепое. Но для Цу-Кин-Цына это не только истина, но и логическое доказательство:
Я убеждаюсь силой
Столь явственных причин.
Таким образом, читателю предлагают предположить, что существует особая «цу-кин-цыновская» логика, нелепость которой видна именно на фоне обычных представлений о связи причин и следствий. Характер этой «логики» раскрывается в последней строфе:
Подумаешь: пять тысяч,
Пять тысяч только лет!»
И приказал он высечь
Немедля весь совет.
Стихи «Я убеждаюсь силой…» и «И приказал он высечь…» даны как параллельные. Только в них дан ритмический рисунок 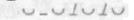 , резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
, резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
В общей картине абсурдных соединений и смещений особое место занимают несоответствия между грамматическим выражением и содержанием. В стихе «И приказал он высечь…» начальное «и», соединяющее два отрывка с доминирующими значениями «выслушал — повелел», должно иметь не только присоединительный, но и причинно-следственный характер. Оно здесь имитирует ту сочинительную связь в летописных текстах, которая при переводе на современный язык передается подчинительными конструкциями причины, следствия или цели. Можно с уверенностью сказать, что в созданной схеме: «Правитель обращается к совету высших чиновников за помощью — совет дает рекомендации — правитель соглашается — правитель приказывает…» — продолжение «высечь совет» будет наименее предсказуемо на основании предшествующей текстовой последовательности. Оно сразу же заставляет нас предположить, что здесь речь идет о каком-то совсем другом мире — мире, в котором наши представления о том, что правительственные распоряжения должны отличаться мудростью и значимостью, а государственный совет — сознанием собственного достоинства, — так же не действуют, как не действуют в нем правила логики и нормы здравого смысла.
В этом мире есть еще одна особенность — время в нем стоит (следовательно, нет исторического опыта). Это выражается и в том, что большие для обычного сознания числительные («пять тысяч лет») употребляются как малые («подумаешь»!). Но интересно и другое: в стихотворении употреблены три грамматических времени: настоящее («сидит», «клянемся»), прошедшее («присели», «ответил» и др.) и будущее («совершим»). Однако все они в плане содержания обозначают одновременное состояние. Фактически действие происходит вне времени.
Следует отметить, что если на лексико-семантическом уровне текст делился на два несоединимых пласта, то в отношении к логике и здравому смыслу они выступают едино. Контраст оказывается мнимым, он снят на более высоком уровне.
Так лексико-семантический и стилистический типы построения текста создают сатиру — художественную модель бюрократической бессмыслицы и того «китаизма», черты которого А. К. Толстой видел в русском самодержавии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Отсутствие сатирического момента в басне («Сокол и голубка» В. А. Жуковского) воспринимается как некоторая неполнота, нарушение ожидания, которое само может быть источником значений. Сообщение же о наличии в басне сатирического элемента вряд ли кого-либо поразит — оно содержится в самом определении жанра. Между тем анализируемое нами произведение А. К. Толстого, взятое с чисто жанровой точки зрения (неозаглавленное стихотворение песенного типа, катрены трехстопного ямба), абсолютно в этом отношении нейтрально: оно с равной степенью вероятности может быть или не быть сатирой.
2 О семантике «кукольности» в сатире второй половины XIX в. см.: Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
3 См.: Чуковский К. И. От двух до пяти // Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1. О структуре текста в поэзии нонсенса см.: Цивьян Т. В., Сегал Д. М. К структуре английской поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2).
А. А. Блок
| АННЕ АХМАТОВОЙ «Красота страшна» — Вам скажут, — Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан — в волосах. «Красота проста» — Вам скажут, — Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан — на полу. Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». 16 декабря 1913 г. |
В анализе этого стихотворения мы сознательно отвлекаемся от внетекстовых связей — освещения истории знакомства Блока и Ахматовой, биографического комментария к тексту, сопоставления его со стихотворением А. Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…», на которое Блок отвечал анализируемым произведением. Все эти аспекты, вплоть до самого общего: отношения Блока к зарождающемуся акмеизму и молодым поэтам, примыкавшим к этому течению, — совершенно необходимы для полного понимания текста. Однако, чтобы включиться в сложную систему внешних связей, произведение должно быть текстом, то есть иметь свою специфическую внутреннюю организацию, которая может и должна быть предметом вполне самостоятельного анализа. Этот анализ и составляет нашу задачу.
Сюжетная основа лирического стихотворения строится как перевод всего разнообразия жизненных ситуаций на специфический художественный язык, в котором все богатство возможных именных элементов сведено к трем основным возможностям:
1. Тот, кто говорит — «я»
2. Тот, к которому обращаются — «ты»
3. Тот, кто не является ни первым, ни вторым — «он».
Поскольку каждый из этих элементов может употребляться в единственном и множественном числе, то перед нами система личных местоимений. Можно сказать, что лирические сюжеты — это жизненные ситуации, переведенные на язык системы местоимений естественного языка 1.
Традиционная лирическая схема «я — ты» в тексте Блока в значительной мере деформирована. Авторское «я» как некоторый явный центр организации текста вообще не дано. Однако в скрытом виде оно присутствует, обнаруживаясь прежде всего в том, что второй семантический центр дан в форме местоимения второго лица — того, к кому обращаются. А это подразумевает наличие обращающегося — некоторого другого центра в конструкции текста, который занимает позицию «я». При этом местоимение второго лица дано не в форме «ты», традиционно утвержденной для лирики и поэтому нейтральной 2, а в специфической «вежливой» форме «Вы». Это сразу же устанавливает тип отношений между структурными центрами текста. Если формула «я — ты» переносит сюжет в абстрактно-лирическое пространство, в котором действующие персонажи — сублимированные фигуры, то обращение на «Вы» совмещает лирический мир с бытовым (ýже: реально существующим в эпоху Блока и в его кругу), придает всему тексту характер неожиданной связанности с бытовыми и биографическими системами. Но то, что они поставлены на структурное место лирики, придает им и более обобщенный смысл: они не копируют бытовые отношения, а моделируют их.
Произведение построено так, что «я» автора, хотя отчетливо выступает как носитель точки зрения, носителем текста не является. Оно представляет собой «лицо без речей». Это подчеркнуто тем, что диалог идет не между «я» и «Вы», а между «Вы» и некоторым предельно обобщенным и безликим третьим лицом, скрытым в неопределенно-личных оборотах «вам скажут» и упоминании «слов, кругом звучащих».
Две первые строфы, посвященные речам этого «третьего» и реакции на них «Вы», построены с демонстративной параллельностью.
«Красота страшна» — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.
«Красота проста» — Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.
В параллельно построенных строфах «они» говорят противоположные вещи, а героиня стихотворения, о которой Блок в черновом наброске писал «покорная молве» 3, молчаливым поведением выражает согласие с обеими «их» оценками, каждая из которых трансформирует всю картину в целом.
Если «красота страшна», то «шаль» становится «испанской», а если «проста» — «пестрой» («страшна» связывается с «испанской» только семантически, а в паре «проста — пестрой» помимо семантической связи есть и звуковая — повтор «прст — пстр»); в первом случае ее «лениво» накидывают на плечи, во втором — ею «неумело» укрывают ребенка. В первом случае «Вы» стилизует себя в духе условной литературно-театральной Испании, во втором — в милой домашней обстановке раскрывает свою юную неумелость.
Первые две строфы нарочито условны: вводятся два образа-штампа, через призму которых осмысляется (и сама себя осмысляет) героиня. В первом случае это Кармен, образ, исполненный для Блока в эти годы глубокого значения и влекущий целый комплекс добавочных значений. Во втором — Мадонна, женщина-девочка, соединяющая чистоту, бесстрастность и материнство. За первым стоят Испания и опера, за вторым — Италия и живопись прерафаэлитов.
Третья строфа отделяет героиню от того ее образа, который создают «они» (и с которыми она не спорит) в предшествующих строфах.
Диалог между героиней и «ими» протекает специфически. Стихотворение композиционно построено как цепь из трех звеньев:
I. «Они» — словесный текст; «Вы» — текст-жест 4.
Отношение между текстами: полное соответствие.
II. «Они» — словесный текст; «Вы» — текст-жест, поза (указан, но не приведен).
Отношение между текстами: расхождение.
III. «Они» — нет текста; «Вы» — словесный текст.
Отношение между текстами: «Вы» опровергаете «их».
Словесный текст в I и III сегментах дан в первом лице. Поведение героини дано с нарастанием динамики: жест — поза — внутренний монолог. Однако движение везде замедленное, тяготеющее к картинности. Это передается значениями слов «рассеянно внимая», «задумаетесь грустно».
Четвертая строфа — итоговая. Спор с «ними» совершается не как отбрасывание «их» мыслей, а как раскрытие большей сложности героини, ее способности сочетать в себе различные сущности. Последняя строфа строится на отрицании элементарной логики во имя более сложных связей. Заключительные три стиха последней строфы отрицают так же, как и первый, «их» слова. Однако при этом уравниваются два различных утверждения:
| «Я не страшна» | = | «Я не так страшна, чтоб…» |
| «Я не проста» | = | «Я не так проста, чтоб…» |
Однако это лишь часть общего принципа построения строфы. Значения слов в последней строфе по отношению к остальным несколько сдвигаются. Те же самые слова употребляются в других смыслах. Это расширяет самое понятие значения слова, придает ему большую зыбкость. Резкое повышение роли локальной, возникающей лишь в данном тексте, семантики — поскольку последняя строфа всегда занимает в стихотворении особое место — приводит к тому, что именно эти, необычные значения начинают восприниматься как истинные. Текст вводит нас в мир, где слова значат не только то, что они значат.
Прежде всего, когда на утверждение «Красота страшна» следует ответ «не страшна <…> я», мы оказываемся перед характерной подменой: «я», которое связывается с понятием предельной конкретности, заменяет собой абстрактное понятие (только из этого контекста делается ясно, что в первом и втором случаях «красота» представляла собой перифрастическую замену лично-конкретного понятия). Уже потому, что «страшна» или «проста» в каждом из этих случаев выступают как компоненты различных сочетаний, семантика их несколько сдвигается. Но это лишь часть общей системы сдвигов значений. «Проста я» позволяет истолковывать «проста», включая его в такие контексты, которые при преобразовании выражения «красота проста» будут неправильными 5. Но выражения «просто убивать» и «не так проста я, / Чтоб не знать, как жизнь страшна» дают совершенно различные значения для «простой», «просто». И хотя обе эти группы значений могут быть подставлены в выражение «не проста я», заменять друг друга они не могут. Именно омонимичность раскрывает здесь глубину семантических различий. Слово «страшна» употреблено в последней строфе три раза и все три раза в исключающих однозначность контекстах. Дело не только в том, что в первых двух случаях оно связывается с отрицанием, а в последнем — с утверждением, но и в том, что контексты «я страшна» и «жизнь страшна» подразумевают совершенно различное наполнение этого слова.
Созданный в последней строфе мир сложности, понимания жизни во всей ее полноте, мудрости построен в форме монолога героини. Это противоречит женственности и юности 6 мира героини в первых строфах. Контраст этот становится активным структурным фактором благодаря тому, что первые строфы построены как диалог двух точек зрения — героини и «их», а последняя строфа — ее монолог. Точки зрения поэта в тексте как будто нет. Однако лексический уровень вступает здесь в противоречие с синтаксическим. Он сообщает нам, что, хотя авторского монолога в тексте нет, вопрос этот более сложен. Монолог героини — это ведь не ее реальные слова, а то, что она могла бы сказать. Ведь их она «твердит про себя». Откуда их знает автор? Ответ может быть только один: это его слова, его точка зрения.
Следовательно, все стихотворение представляет диалог. В первых строфах — это разговор «Вас» и «их», причем «они» доминируют, а «Вы» следует за «ними». В последней строфе — два голоса: «мой» (автора) и «Ваш», но они слиты настолько, что могут показаться одним. Из этого следует, что «Вы» на протяжении текста не равно само себе, и его сложная многогранность, возможность одновременно быть мудрым, как автор, прекрасным женской (и светской, и театрально-испанской) прелестью, овеянной обаянием юного материнства и поэзии, наивно зависимым от чужого мнения и полным превосходства над этим мнением, создает смысловую емкость текста на уровне лексики и синтаксико-композиционного построения.
Сложный полифонизм значений на этом уровне дополняется особой структурой низших элементов. Читательское восприятие текста — ощущение его крайней простоты. Однако простота не означает «непостроенность». Малая активность ритмического и строфического уровней и отсутствие рифмы компенсируются активной организацией фонологии текста. Поскольку вокализм и консонантизм дают здесь разные схемы организации и в общую сумму значений входит возникающий при этом конфликт, рассмотрим каждую из систем в отдельности.
Ударные гласные в тексте располагаются следующим образом:
| I | а | а | а | ||
| и | и | ||||
| а | а | е | |||
| а | о | а | |||
| II | а | а | а | ||
| о | а | е | |||
| о | о | ||||
| а | о | у | |||
| III | е | а | |||
| а | о | а | |||
| у | у | ||||
| и | и | ||||
| IV | а | а | |||
| а | а | о | |||
| а | а | а | |||
| а | ы | а |
Распределение ударных гласных дает следующую картину:
| А | И | Е | О | У | Ы | ||
| колич. | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | всего — 42 |
| % | 59,5 | 7,1 | 7,1 | 16,7 | 7,2 | 2,4 |
Для сравнения приведем данные по стихотворению «На улице — дождик и слякоть…», написанному в тот же период и близкому по основным показателям (количество стихов и ударных гласных в стихе):
| А | И | Е | О | У | Ы | ||
| колич. | 17 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | всего — 48 |
| % | 35,4 | 20,8 | 14,6 | 16,7 | 10,4 | 2,1 |
Сознавая, что, конечно, надо было бы сопоставить эти данные с соответствующими статистическими показателями во всей лирике Блока (таких подсчетов пока не имеется) и со средними статистическими данными распределения гласных в русской непоэтической речи, мы можем, однако, заключить, что для ощущения фонологической организованности текста этих данных вполне достаточно.
Проследим некоторые особенности этой организованности.
В пределах вокализма ведущей фонемой является «а». Первый стих не только дает подчеркнутую инерцию этой доминации (рисунок вокализма первого стиха выглядит так: «а-а-а-а-а-а-а-у» 7), но и играет роль фонологического лейтмотива всего стихотворения; дальнейшие модификации — вплоть до полного разрушения этой инерции — возможны именно потому, что она так открыто задана в начале. Ударное «а» прошивает, как нитью, ряд слов, образуя цепочку понятий, которые выступают в тексте как семантически сближенные (подобно тому, как мы говорим о локальных синонимах и антонимах поэтического текста, можно было бы говорить и о локальных семантических гнездах, играющих в поэтическом тексте такую же роль, какую однокоренные группы — в нехудожественном):
красота
страшна
красный
Сближение этих понятий создает новые смыслы, некоторые из традиционных актуализирует, другие — гасит. Так, на перекрестке понятий «страшный» и «красный» возникает отсутствующее в тексте, но явно влияющее на его восприятие — «кровь». Вне этого подразумевающегося, но неназванного слова было бы совершенно непонятно неожиданное появление в последней строфе «убивать».
Вместе с тем в первой строфе образуется некоторый диалог на фонологическом уровне. Одну группу составляют гласные заднего ряда (доминирует «а»), вторую — гласные переднего ряда + «ы». Доминируют в этом ряду «и/ы». Здесь тоже образуется «родственный» ряд:
Вы
лениво
плечи
Любопытно, что в этой связи пара «Вам — Вы» выглядит не как две формы одной парадигмы, а как противоположные реплики в диалоге. «Красный», «страшный» и «красивый» мир — это мир, который «Вам» навязывают «они» («они» — определенный тип культурной традиции, определенный штамп для осмысления жизни). Группа «и/ы» строит поэтическое «Вы» — реакцию героини: «накинете» — «лениво» — «плечи». При этом «накинете» и «испанскую» представляют синтез этого звукового спора: «накинете» — «а — и — и — е» — переход от первой группы ко второй, а «испанскую» — «и — а — у — у» — переход от второй группы к ряду, заданному в первом стихе, — «а — у». В этом же особая роль слова «красный», которое выступает как слияние группы «красота» — «страшна», построенной только на «а», и «Вы» с единственным гласным «ы».
Предлагаемый «ими» объясняющий штамп привлекателен, многозначим и страшен, а героиня пассивна и готова его принять.
Вторая строфа начинается таким же по звуковой организации стихом. Правда, уже в первом стихе есть отличие. Хотя вокализм его произносится так же:
а — а — а — а — а — а — а — у,
но не все эти «а» равнозначны: некоторые из них — фонемы, другие лишь произносительные варианты фонемы «о». В определенной мере это имело место и в первом стихе первой строфы, но разница очень велика. Дело не в том, что там один такой случай на семь, а здесь — два. В ведущем слове первой строфы — «страшна» — оба «а» фонемные, а второй — «проста» — первое «а» — лишь «замаскированное» «о». Это очень существенно, поскольку фонема «о» в этой строфе из группы «заднерядных», противопоставляясь «а», получает самостоятельное структурное значение. Если в выражении «красота страшна» (а — а/о —а — а — а) «а/о» скрадывается под влиянием общей инерции, то в случае «красота проста» мы получаем симметричную организацию «а — а/о — а — а/о — а», что сразу же делает ее структурно значимой. Консонантной группой, как мы увидим дальше, «проста» связывается с «пестрой» (прст — пстр), а вокализмы образуют группу:
пестрой
неумело
укроете
ребенка.
Поскольку особая роль «красного» в первой строфе задала инерцию высокой «окрашенности», антитетичность общей структуры уже настраивает нас на поиски цветового антонима. Здесь им оказывается «пестрый», который конденсирует в себе значения домашности, неумелости, юности и материнства. Особую роль в этой строфе приобретает «у». Оно встречается в сочетаниях не с «а», а с группой «е — и — о» («неумело»: е — у — е — о, «укроете»: у — о — е — е). При антитетическом противопоставлении стихов:
Красный розан — в волосах,
Красный розан — на полу —
оппозиция конечных ударных «а» — «у» приобретает характер противопоставления «верх — низ», что на семантическом уровне легко осмысляется как торжество или унижение «красного розана» — всей семантической группы красоты, страшного и красного.
Поскольку первая строфа противостоит второй как «красная» — «пестрой», особое значение получает то, что первая строится на повторах одной фонемы (именно «а»), а вторая — на сочетаниях различных. То есть в первом случае значима фонема, во втором — ее элементы. Это, при установлении соответствий между фонологическими и цветовыми значениями, осмысливается как иконический знак пестроты.
Третья строфа «не окрашена». Это выражается и в отсутствии цветовых эпитетов, и в невозможности обнаружить вокальные доминанты строфы.
Последняя строфа, образуя композиционное кольцо, строится столь же демонстративно на основе «а», как и первая (это приобретает особый смысл, поскольку на уровне слов она отрицает первую) 8. Диссонанс представляет лишь ударное «ы» в слове «жизнь». Оно тем более значимо, что это единственное ударное «не-а» в строфе. Оно сразу же связывается в единую семантическую группу с «Вы». И то, что «жизнь» — наиболее емкое и значимое понятие — оказывается на уровне синтаксиса антонимом героини (страшна не я, а жизнь), а на уровне фонологии синонимом (вернее, «однокоренным» словом), придает образу героини ту сложность, которая и является конструктивной идеей стихотворения.
Консонантизмы текста образуют особую структуру, в определенной мере параллельную вокализмам и одновременно конфликтующую с ней. В консонантной организации текста отчетливо выделяются, условно говоря, «красная» группа и группа «пестрая». Первая отмечена: 1) глухостью; здесь скапливаются «к», «с», «т», «ш», «п»; 2) концентрацией согласных в группы. Вторая — 1) звонкостью; здесь преобладают плавные; 2) «разряженностью»; если в первой группе соотношение гласных и согласных 1: 2 или 1: 3, то во второй — 1: 1.
Фонологические повторы согласных образуют определенные связи между словами.
| красота | страшна ————→ | красный |
| крст | стршн | крсн |
| красота | проста —————→ | пестрый |
| крст | прст | пстр |
Звуковые трансформации совершаются в данном случае вполне закономерно. При этом активизируются, с одной стороны, фонемы, включенные в повторяющееся звуковое ядро, а с другой — неповторяющиеся, такие, как «ш» в первом случае или «к» во втором. Они выполняют роль дифференциальных признаков. Отсюда повышенная значимость сочетаний «ш» с доминантным «а» в слове «шаль» (третий стих первой строфы) и «кр» во второй строфе, где это сочетание повторяется и в отброшенном (и сюжетно — «на полу», и конструктивно) «красный», и в противопоставленных ему «укроете» и «ребенка».
Однако, при всей противопоставленности «красный — пестрый», эти понятия (слова) складываются в нейтрализуемую на метауровне пару не только потому, что образуют архисему «цвет», но и поскольку имеют ощутимое общее фонологическое ядро. Этому скоплению согласных с сочетанием взрывных и плавных, глухих и звонких противостоит употребление одиночных консонант на вокальном фоне. Центром этой группы становится «Вы». В ней большое место занимают сонорные и полугласные. Это такие слова, как «неумело», «внимая», «задумаетесь». Семантическое родство их очевидно — все они связаны с миром героини. В последней строфе эти две тенденции синтезируются. Так, поставленное в исключительное в стихе синтаксическое положение слово «убивать» (единственный перенос) по типу консонантной организации принадлежит группе с «домашней» семантикой, и это способствует неожиданности, то есть значимости его информационной нагрузки.






