Единственное преимущество, которое может дать пребывание в сообществе других страдальцев, состоит в убеждении каждого» том, что преодоление неприятностей в одиночку есть то, чем все остальные занимаются повседневно, поэтому для оживления слабеющей решимости следует продолжать делать то же самое: сражаться в одиночку. Кто-то, быть может, способен научиться на чужом опыте, как пережить следующий раунд испытаний, как вести себя с детьми, считающими, что они уже выросли, и с подростками, которые отказываются становиться взрослыми, как освободиться от жира и других шлаков в своем организме, как избавиться от пристрастий, более не приносящих радости, или от партнеров, от которых уже не получаешь никакого удовольствия. Но главное, что познается в компании других людей, - это то, что единственная услуга, которую они способны оказать, заключается в совете, как можно выжить в собственном безысходном одиночестве, и в утверждении того, что жизнь каждого человека полна рисков, которым надо противостоять и с которыми следует бороться, рассчитывая только на свои силы.
И это указывает еще на одну загвоздку: как давным-давно подозревал Токвиль, обретение людьми свободы может сделать их безразличными. Индивидуальность есть худший враг гражданина, считал он. Личность имеет склонность быть не горячей и не холодной - еле теплой, скептической или подозрительной в отношении «общего блага», «хорошего», или «справедливого» общества. Каков смысл общих интересов, если они не позволяют каждому индивиду реализовывать его соб ственныё? Что бы ни делали индивиды, собираясь вместе, все это подразумевает ограничение их свободы заниматься тем, что они считают для себя необходимым и, следовательно, не способствует достижению их целей. Двумя вещами, которых
Часть I. Как мы живем
Глава 3, Свобода и безопасность: неоконченная история непримиримого союза

 только и можно ждать и желать от «публичной власти», являются соблюдение прав человека, то есть предоставление каждому возможности идти своим путем, и поддержание мира -условий сохранения в целости самого человека и его собственности, что достигается заточением преступников в тюрьмы, освобождением улиц от грабителей, извращенцев и нищих, а также от отвратительных и злобных чужаков.
только и можно ждать и желать от «публичной власти», являются соблюдение прав человека, то есть предоставление каждому возможности идти своим путем, и поддержание мира -условий сохранения в целости самого человека и его собственности, что достигается заточением преступников в тюрьмы, освобождением улиц от грабителей, извращенцев и нищих, а также от отвратительных и злобных чужаков.
В своей обычной неподражаемой манере Вуди Аллен безошибочно изображает причуды и увлечения этих личнос-тей-по-установлению, населивших эпоху поздней модернити, листающих воображаемые рекламные проспекты «летних курсов для взрослых», охотно посещаемых американцами: так, курс экономической теории включал бы тему «Инфляция и депрессия - как одеваться во время одной и другой»; курс этики рассматривал бы «Категорический императив и шесть способов заставить его работать на вас»; а буклет курса астрономии мог бы содержать информацию, что «Солнце, состоящее из газов, может в любой момент взорваться, вызвав гибель всей нашей планетной системы: студентов учат, как следует вести себя в подобных обстоятельствах».
Подытожим: оборотной стороной индивидуализации является, судя по всему, эрозия и постепенная дезинтеграция идеи гражданства. Жоэль Роман, соредактор «Esprit», отмечает в своей недавно вышедшей книге «Демократия индивида» [8], что «бдительность деградировала до уровня надзора за вещами, тогда как общий интерес является не более чем совокупностью эгоизмов, порождающих коллективные эмоции и страх перед соседом», и это побуждает людей к поискам «обновленной способности к совместным решениям», ныне примечательной разве что по причине своего отсутствия.
Если индивидуальность и является злейшим врагом гражданина, а индивидуализация внушает беспокойство относительно судеб гражданства и опирающейся на гражданство политики, то только потому, что заботы и хлопоты индивидов, заполняющих в этом своем качестве социальное пространство и считающих себя его единственными законными обитателями, вытесняют из сферы публичных дебатов все прочие вопросы. «Общественное» колонизируется «частным»;
«публичный интерес» деградирует до любопытства к частной жизни «общественных деятелей», сводя искусство жить в обществе к копанию в чужом белье и публичным излияниям частных эмоций (чем более интимных, тем лучше). «Общественные проблемы», которые не могут быть подвергнуты подобной редукции, и вовсе перестают быть понятными.
Перспективы индивидуализированных личностей, заново ищущих себе места в республиканских институтах гражданства, неясны. Вновь выходить на публичную арену их заставляет не столько поиск совместных проектов и способов определить понятие общего блага и принципов совместного существования, сколько отчаянная потребность участия в «сети»: обмен интимными подробностями, как не перестает указывать Ричард Сеннетт, становится предпочтительным и чуть ли не единственным оставшимся способом построения сообщества. В результате они оказываются столь же хрупкими и недолговечными, как и несвязанные и блуждающие эмоции, беспорядочно мечущиеся от одной цели к другой и дрейфующие в вечном безрезультатном поиске безопасной гавани; сообщества коллективного беспокойства, волнения или ненависти, - но в любом случае они останутся сообществами, сконцентрированными вокруг «крючка», на который многие одинокие личности вешают свои неразделенные индивидуальные страхи. Как выразился Ульрих Бек в очерке «О смертном характере индустриального общества», «из постепенно исчезающих социальных норм проступает обнаженное, перепуганное, агрессивное 'эго\ ищущее любви и помощи. В поисках самого себя и любящей общности оно легко теряется в джунглях собственного Я... И каждый, кто блуждает в тумане собственного Я, более не способен замечать, что эта изолированность, эта 'одиночная камера для эго', отражает приговор, вынесенный всем» [9].
Единение на индивидуальный манер
Индивидуализация пришла надолго; все, кто задумывался о том, как относиться к ее влиянию на образ жизни каждого из нас, должен исходить из признания этого факта. Инди-
Часть I. Как мы живим
Глава 3. Свобода и безопасность: неоконченная история ттримиримого союза


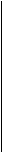
 видуализация несет все более широкому кругу людей беспрецедентную свободу экспериментирования, но (бойтесь данайцев, дары приносящих...) она ставит на повестку дня и беспрецедентную задачу борьбы с ее последствиями. Зияющая пропасть между правом на самоутверждение и способностью контролировать социальные условия, делающие такое самоутверждение осуществимым или нереальным, является, судя по всему, основным противоречием «второй модернити», того состояния, которое методом проб и ошибок, критичес кого осмысления и смелых экспериментов нам потребуется коллективно изучить и коллективно использовать.
видуализация несет все более широкому кругу людей беспрецедентную свободу экспериментирования, но (бойтесь данайцев, дары приносящих...) она ставит на повестку дня и беспрецедентную задачу борьбы с ее последствиями. Зияющая пропасть между правом на самоутверждение и способностью контролировать социальные условия, делающие такое самоутверждение осуществимым или нереальным, является, судя по всему, основным противоречием «второй модернити», того состояния, которое методом проб и ошибок, критичес кого осмысления и смелых экспериментов нам потребуется коллективно изучить и коллективно использовать.
В книге «Время побочных последствий и политизации индустриального общества» Ульрих Бек высказывает предположение, что [сегодня] требуется нечто не менее значительное, чем новая Реформация, «призывающая к 'радикализации модернити'»- Он говорит, что «это предполагает социальные нововведения и коллективное мужество в политических экспериментах», сразу же добавляя, что все это - «наклонности и качества, встречающиеся нечасто и, наверное, уже неспособные привлечь к себе большинство». И вот к чему мы пришли: у нас нет иных условий, в которых мы можем действовать, и мы будем действовать в существующих условиях, нравится нам это или нет, испытывая па себе вес по следствия своих действий или своей неспособности к ним.
Движение от одного риска к другому само по себе требу-ет нервных затрат, порождает множество неподдельных и неослабевающих волнений, страхов и взывает к постоянной бдительности; вот уж действительно жирная муха в сладкой подливке свободы. Но этим, однако, не исчерпывается весь причиняемый урон.
Пьер Бурдье напомнил недавно об одном старом универсальном правиле:
«Способность к прогнозированию будущего является условием любого поведения, которое может считаться рациональным... Для выработки революционного проекта, предполагающего хорошо продуманное намерение изменить настоящее в соответствии с запроектированным будущим, требуется некая толика влияния на существующее положение вещей» [ 10].
Неприятнее всего то, что по причине неистребимой неуверенности (Unsicherheit), «владение ситуацией» является той чертой, отсутствие которой у наших современников особенно бросается в глаза. Под их юрисдикцией не находится ни один из важнейших рычагов влияния на существующее положение дел, а о контроле над ним, преходящем или постоянном, говорить вообще не приходится. Множество людей уже непосредственно столкнулось с таинственными и по-разному называемыми силами, такими, как «конкурентоспособность», «рецессия», «рационализация», «сокращение рыночного спроса» или «снижение объема производства»; каждый из нас легко может припомнить своих знакомых, вдруг потерявших почву под ногами... Но эхо подобных ударов отзывается даже далеко в стороне от непосредственно пораженных целей, и речь идет не просто о тех, кто был за один день уволен, понижен в должности, унижен или лишен средств существования. Каждый удар - это и предупреждение тем, кто {пока еще) уцелел, заставляющее их оценивать свое будущее скорее в контексте строгости выносимого приговора, чем с учетом продолжительности (пока еще неизвестной) его временной отсрочки. Смысл этого послания прост: каждый человек является потенциально излишним или заменимым, и поэтому каждый уязвим, причем любое социальное положение, каким бы высоким и влиятельным оно ни казалось, в конечном счете условно, даже привилегии хрупки и находятся под угрозой.
Удары могут быть направленными, в отличие от порождаемой ими психологической и политической опустошенности. Страх, который они генерируют, распространяется и проникает повсюду. Как выразился Бурдье, этому страху «доступны как сознание, так и подсознательный уровень». Чтобы достичь высот, человек должен ощущать твердую почву под ногами. Но [сегодня] почва сама все более неустойчива, нестабильна, ненадежна - это уже не прочная скала, на которой можно дать ногам отдохнуть перед рывком вверх. Доверие, это незаменимое условие всякого рационального планирования и осознанных поступков, плывет по течению в тщетных поисках дна, пригодного для того, чтобы бросить якорь. Состояние неуверенности, замечает Бурдье,
5 Индивидуализированное общество
Часть I. Как мы живем
Глава 3. Свобода и безопасность: неоконченная история непримиримого союза



 «делает все будущее неопределенным и тем самым препятствует любым рациональным ожиданиям, в частности, не формирует даже тех минимальных надежд на будущее, которые нужны человеку, чтобы восстать, и особенно восстать коллективно, против даже самого непереносимого настоящего».
«делает все будущее неопределенным и тем самым препятствует любым рациональным ожиданиям, в частности, не формирует даже тех минимальных надежд на будущее, которые нужны человеку, чтобы восстать, и особенно восстать коллективно, против даже самого непереносимого настоящего».
Сегодня принято и даже модно сожалеть о нарастании нигилизма и цинизма среди современных мужчин и женщин, критиковать их недальновидность, безразличие к долгосрочным жизненным планам, приземленность и своекорыстие их желаний, их склонность разделять жизнь на эпизоды и проживать каждый из них без оглядки на последствия. Все такие обвинения достаточно обоснованны, чтобы быть поддержанными. Но большинство нравственных проповедников, обрушивающихся на упадок морали, забывают, однако, упомянуть, что очевидная тенденция, осуждаемая ими, сильна тем, что является разумной реакцией на мир, в котором человек вынужден относиться к будущему как к угрозе, а не как к прибежищу или земле обетованной. Большинство критиков не в состоянии также принять в расчет и то, что этот мир, подобно любому человеческому миру, построен самими людьми; отнюдь не будучи продуктом ни безупречных и неоспоримых естественных законов, ни грешной и неисправимой человеческой природы, он в немалой мере является продуктом того, что можно назвать политической экономией неопределенности [11].
Основным движителем этой особой, присущей нашему времени политической экономии является бегство власти от политики, тайно поддерживаемое традиционными институтами политического контроля, прежде всего правительствами, зачастую - в форме проведения курса на дерегулирование и приватизацию. Конечным результатом этого процесса является, как выразился Мануэль Кастельс [12], мир, в котором власть непрерывно перемещается, а политика стоит на месте; власть становится все более глобальной и экстерриториальной, тогда как существующие политические институты остаются локализованными и находят затруднительным и даже невозможным подняться над местным уровнем. На протяжении двух столетий люди пытались укротить и приручить слепые и беспорядочные силы природы, заменить их рационально постро-
енным, предсказуемым и управляемым человеческим порядком, но сегодня уже результаты человеческих действий противостоят нам в качестве эксцентричных и капризных, своевольных и непроницаемых и, что особенно важно, необузданных и неконтролируемых «естественных» сил. Общества, некогда боровшиеся за то, чтобы их мир стал прозрачным, неуязвимым для опасностей и избавленным от сюрпризов, теперь обнаруживают, что их возможности целиком зависят от переменчивых и непредсказуемых таинственных сил, таких, как мировые финансы и биржи, и вынуждены беспомощно наблюдать, как сокращается рынок труда, растет нищета, деградируют почвы, исчезают леса, повышается содержание углекислого газа в атмосфере и приближается глобальное потепление климата. Вещи - и прежде всего наиболее важные - «выходят из-под контроля». По мере роста способности человека справляться с его повседневными проблемами растут риски и опасности, непосредственно привносимые каждым его шагом либо вытекающие из этих шагов в более отдаленной перспективе. В результате возникает всепроникающее ощущение «утраты контроля над настоящим», что, в свою очередь, ведет к параличу политической воли; к утрате веры в то, что коллективным образом можно достичь чего-либо существенного, а солидарные действия способны внести решительные перемены в состояние человеческих дел. Существующая ситуация все чаще расценивается как должное, как высшая необходимость, в которую люди могут вмешаться лишь во вред себе самим. Мы то и дело слышим, что единственным лекарством от болезненных побочных эффектов все более жесткой конкуренции является еще большая дерегуляция, нарастание гибкости и решительный отказ от любого вмешательства. Если же это кого-то не убеждает, последним аргументом становится слишком очевидное отсутствие института, достаточно могущественного, чтобы выполнить решения, которые могли бы родиться в совместных обсуждениях и поиске компромисса. Даже те, кто думает, что им известно, как действовать в этом направлении, «выбрасывают на ринг полотенце», как только наступает момент решать, кто именно - какой эффективный институт - должен все это сделать.
Часть I. Как мы живем
Глава 3. Свобода и безопасность: неоконченная история непримиримого союза


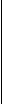 Вот почему, как заметил Корнелиус Касториадис, «наша цивилизация перестала задавать вопросы самой себе». В этом, добавляет он, заключена наша главная беда. Когда люди смиряются со своей неспособностью контролировать условия собственной жизни, когда они капитулируют перед тем, что считают необходимым и неизбежным, - общество перестает быть автономным, то есть самоопределяющимся и самоуправляемым; или же, скорее, люди не верят в его автономность и потому утрачивают мужество и волю к самоопределению и самоуправлению. Общество вследствие этого становится неуправляемым, подталкиваемым, а не руководимым, планктоноподоб-ным, дрейфующим, а не следующим заданным курсом. Находящиеся на борту корабля смиряются со своей участью и оставляют все надежды на определение пути, которым движется корабль. На заключительной стадии модернистской авантюры по построению самоуправляющегося автономного мира людей мы вступаем в «эпоху универсального конформизма» {13].
Вот почему, как заметил Корнелиус Касториадис, «наша цивилизация перестала задавать вопросы самой себе». В этом, добавляет он, заключена наша главная беда. Когда люди смиряются со своей неспособностью контролировать условия собственной жизни, когда они капитулируют перед тем, что считают необходимым и неизбежным, - общество перестает быть автономным, то есть самоопределяющимся и самоуправляемым; или же, скорее, люди не верят в его автономность и потому утрачивают мужество и волю к самоопределению и самоуправлению. Общество вследствие этого становится неуправляемым, подталкиваемым, а не руководимым, планктоноподоб-ным, дрейфующим, а не следующим заданным курсом. Находящиеся на борту корабля смиряются со своей участью и оставляют все надежды на определение пути, которым движется корабль. На заключительной стадии модернистской авантюры по построению самоуправляющегося автономного мира людей мы вступаем в «эпоху универсального конформизма» {13].
Как обезопасить демократию в условиях индивидуализированного общества
Многие историки и политические философы не без оснований относят начало современной демократии к моменту, когда люди отказались подвергаться налогообложению без их предварительного согласия. В этом отказе было заключено нечто большее, чем забота о собственном кармане, - на карту был поставлен (пусть и не напрямую, а лишь косвенно) важный принцип, сама идея субъекта как гражданина и гражданина как члена политического организма, человека, обладающего голосом, наряду с другими гражданами, во всех делах, касающихся их прав и обязанностей, привилегий и обязательств. Именно эта идея легла в фундамент современной демократии и современного видения республики - res publica - как политического организма, члены которого коллективно решают, как оформить условия своего сосуществования, сотрудничества и солидарности.
Подобная модель демократии так и не была полностью воплощена в жизнь. Есть основания полагать, что это и не-
возможно; что ее подлинная сила заключена в ее постоянной и непреодолимой «незавершенности». Как предполагает Жак рансьер {14], демократия представляет собой не институт, а прежде всего аитиииституционалъную силу, не позволяющую жестокому стремлению власти предержащей сдерживать перемены, заставлять людей молчать, а потом и отстранять от политического процесса всех, кто не был «рожден» во власти или претендовал на право участвовать в управлении только на основании своей уникальной к этому подготовленности. В то время как власть предержащая утверждает правление меньшинства, демократия постоянно выступает от имени всех, требуя доступа к власти на основаниях гражданства, то есть качества, принадлежащего всем в одинаковой мере. Демократия выражает себя в непрерывной и безжалостной критике институтов; это анархический и разрушительный элемент, встроенный внутрь политической системы; по самой своей сути это сила несогласия и перемен. Демократическое общество легче всего распознать по его постоянным сожалениям, что оно еще недостаточно демократично.
Сила влияния демократического давления на политическую систему, успех либо неудача попыток достичь идеала автономного общества зависят от баланса между свободой и безопасностью. Давление демократического подхода, если не в теории, то на практике, блекнет и снижается, когда равновесие нарушается в пользу одного из двух важнейших условий политического участия и ответственного гражданства: когда или свобода, или безопасность оказываются в дефиците. Вся политическая история эпохи модернити может рассматриваться как неустанные поиски верного баланса между ними - ради достижения постулированной, но ни разу еще не найденной «точки равновесия» между свободой и безопасностью, - двумя аспектами положения человека, одновременно противоборствующими и взаимодополняющими. До сего дня этот поиск остается незавершенным. Вероятнее всего, он никогда не будет закончен. Поиск продолжается. Его продолжение само по себе выступает необходимым условием борьбы современного общества за автономию.
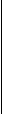 Часть I. Как мы живем
Часть I. Как мы живем
 Но на протяжении большей части современной истории главная опасность для демократии справедливо усматривалась в ограничениях, навязываемых свободе человека политической властью институтов, ответственных за «коллективно гарантированную безопасность». Похоже, что в наши дни угроза демократии исходит с противоположной стороны; именно коллективно гарантированная безопасность становится все более желанной, в то время как она подвергается нападкам, поскольку стоит на пути публичной политики, ею пренебрегают как достойной защиты ценностью. Дефицит свободы обусловливает неспособность самоутверждаться, сопротивляться, «подняться во весь рост и заставить с собой считаться». Дефицит безопасности приводит к большей смелости в поиске убедительных причин для сопротивления и выступлений в защиту общества, более чуткого к нуждам и потребностям человека. В обоих случаях результат поразительно одинаков: ослабление демократических рычагов, растущая неспособность к политическим действиям, массовый отход от политики и ответственного гражданства.
Но на протяжении большей части современной истории главная опасность для демократии справедливо усматривалась в ограничениях, навязываемых свободе человека политической властью институтов, ответственных за «коллективно гарантированную безопасность». Похоже, что в наши дни угроза демократии исходит с противоположной стороны; именно коллективно гарантированная безопасность становится все более желанной, в то время как она подвергается нападкам, поскольку стоит на пути публичной политики, ею пренебрегают как достойной защиты ценностью. Дефицит свободы обусловливает неспособность самоутверждаться, сопротивляться, «подняться во весь рост и заставить с собой считаться». Дефицит безопасности приводит к большей смелости в поиске убедительных причин для сопротивления и выступлений в защиту общества, более чуткого к нуждам и потребностям человека. В обоих случаях результат поразительно одинаков: ослабление демократических рычагов, растущая неспособность к политическим действиям, массовый отход от политики и ответственного гражданства.
Теперь у нас есть все основания полагать, что полное примирение и бесконфликтное сосуществование свободы и безопасности - это недостижимая цель. Но не менее серьезны основания считать, что главная угроза как свободе, так и безопасности заключается в отказе от самого поиска условий их сосуществования или в ослаблении энергии, с которой ведется этот поиск. В нынешней ситуации основное внимание следует сосредоточить на той стороне искомого союза, где располагается безопасность. Поскольку автономное общество немыслимо без автономности граждан, а автономность граждан немыслима вне автономного общества, то усилия, имеющие шанс на успех, нужно прилагать одновременно как на макро-, так и на микроуровне. Необходимо что-то сделать, чтобы или упрочить способность существующего политического организма к самоуправлению, или расширить возможности последнего, вернув власть под политический контроль, от которого она уклонилась в недавнем прошлом. Необходимо также сделать что-то для усиления влияния индивидов на существующее положение дел, для того чтобы они могли вер-
Глава.3. Свобода и безопасность: неоконченная история непримиримого союза
 путь утраченное мужество и возобновить исполнение обязанностей ответственных граждан.
путь утраченное мужество и возобновить исполнение обязанностей ответственных граждан.
Что именно следует сделать, должно быть решено в ходе политического процесса. Представляется, однако, что на макроуровне поиск нужно было бы сосредоточить на способах возвышения политических институтов до тех глобальных высот, где сегодня перемещается реальная власть, и, таким образом, открыть для политического действия пространство, которое в настоящий момент остается свободным. На микроуровне, в обстановке нынешних «структурных излишеств», задача, к решению которой в конечном счете должны вести предпринимаемые поиски, будет, по-видимому, заключаться в [обеспечении того], что Клаус Оффе и его коллеги [15] именуют «базовым доходом», или «отделением права на доход от занятости»: в создании фундамента для индивидуальной жизнедеятельности, не зависимого от капризов рынка и застрахованного от рисков, которыми чреваты неизведанные пути технологических инноваций.
Второй вопрос, гораздо более головоломный, заключается в том, кто сделает все то, что должно быть сделано... Путь к институту, способному ответить на этот вызов, подозрительно напоминает порочный круг. Политическая власть, обладающая глобальной мощью, необходима для сдерживания и ограничения ныне неконтролируемых мировых сил, но именно то, что последние по сей день остаются бесконтрольными, препятствует возвышению эффективных политических институтов до глобального уровня...
От нашей способности развязать или разрубить этот гордиев узел и будут в обозримом будущем зависеть судьбы республиканских институтов гражданства, демократии и свободы человека.

 Модернити и ясность: история неудачного романа
Модернити и ясность: история неудачного романа
Двойственность, неопределенность, сомнительность... Эти слова передают ощущение тайны и загадки; они также, оповещают о беде, имя которой - неуверенность; свидетельствуют об угнетенном состоянии ума, называемом нерешительностью или сомнениями. Когда мы говорим, что вещи или ситуация оказались двойственными, это значит, что у нас нет уверенности в том, чего следует ожидать, что мы не знаем ни как себя вести, ни какими окажутся последствия наших действий. Инстинктивно или на основании опыта мы опасаемся двойственности, этого врага безопасности и уверенности в себе. Мы склонны верить, что чувствовали бы себя в гораздо большей безопасности и комфорте, если положение оказалось бы определенным - если бы мы знали, что следует делать, и были уверены в последствиях наших поступков.
Сомнения рассудка и нерешительность воли, эти наиболее заметные изъяны двух составных частей человеческого ума, встречаются друг с другом и сливаются воедино в феномене двойственности. Мир - сфера приложения разума - оказывается неясным (и подает нечеткие, даже противоречивые сигналы), когда у воли нет уверенности, какой выбор следует сделать; нечеткость картины мира, какой ее рисует разум, и неопределенность, от которой страдает воля, нарастают и преодолеваются лишь вместе. Мир кажется твердым, как скала, и не порождает никаких сомнений, пока наши действия остаются привычными и рутинными. Мир предстает неясным, как только мы начинаем сомневаться, когда рутинные действия перестают быть эффективными и мы не можем бо-
Глава 4. Модерпити и ясность: история неудачного романа
 лее полагаться на подсказку опыта. Тогда нерешительность воли проецируется на какой-то иной мир и возвращается в облике ощущения неясности. То, что в конечном счете подразумевает рассудок, говоря о «не вполне определенной» или отчего-то неясной картине мира, есть лишь констатация недостатка уверенности воли в себе самой.
лее полагаться на подсказку опыта. Тогда нерешительность воли проецируется на какой-то иной мир и возвращается в облике ощущения неясности. То, что в конечном счете подразумевает рассудок, говоря о «не вполне определенной» или отчего-то неясной картине мира, есть лишь констатация недостатка уверенности воли в себе самой.
Иначе говоря, все это указывает на неразрывную связь между восприятием мира как чего-то непрочного и порождающего сомнения и пределами человеческой свободы. Чем меньше я могу сделать и чем меньше могу захотеть (то есть чем более ограничен мой выбор), тем очевиднее «реалии жизни». Чем шире становится мой выбор - воображаемый мир будущих возможностей, - тем менее очевидными и убедительными оказываются сигналы, исходящие от мира, существующего здесь и сейчас.
Однако это лишь то, что лежит на поверхности. Более внимательный взгляд обнаруживает, что опыт свободы не столь уж неделим (как и сама воля, разрывающаяся между реальным и воображаемым); он раскалывается на части пониманием того, «что я в силах сделать», и представлением о том, «что мне хочется увидеть сделанным». Способности и желания могут совпасть и идеально слиться в твердой решимости действовать. Но слишком часто их пути не пересекаются, и двойственность становится первым интуитивным ощущением этого несовпадения. Если диапазон возможностей превосходит силу воли, двойственность проявляется в форме волнения и обеспокоенности; если имеет место обратное и желаемые состояния не подкреплены способностью их достичь, двойственность приходит в форме сомнений, отрешенности и отчаянных позывов к самоотстраненности.
Размягчив любую твердь и осквернив все святыни, эпоха модернити открыла путь в эру постоянной дисгармонии между желаниями и возможностями. По этой же причине она стала эпохой двойственности в обоих ее проявлениях. Разумеется, она стала также и эрой свободы. И это сделало необходимой и неизбежной присущую модернити скептическую критику, уходящую корнями в гнетущее ощущение того, что вещи не таковы, какими кажутся, а мир, уже представлявшийся на-
 Часть I. Как мы живем
Часть I. Как мы живем
 шим, лишен достаточно прочных оснований, чтобы на него можно было опереться. Одновременное появление двойственности, свободы и скептицизма не было простым совпадением. И можно лишь гадать, мыслимо ли вообще существование любого из элементов этой троицы без двух остальных. Скептицизм как таковой не был, разумеется, изобретением Нового времени. Он распространился по Европе, когда там началась эрозия прежней определенности средневековой христианской цивилизации, и, достигнув своего пика на пороге эры модернити, в XVII веке, принял форму новой интерпретации, перетасовки и пересмотра античных взглядов, задолго до этого выдвинутых Энесидемом или Секстом Эмпириком; он даже получил название «Пиррониева кризиса» - в честь греческого философа, основателя скептицизма как философского учения. При этом между скептической мыслью античности и ее новым перевоплощением было глубокое, даже значительное различие. Для Секста Эмпирика всеобщее сомнение могло и должно было воплотиться в психическом равновесии; для Монтеня и его последователей оно вело к помешательству. Античные пирронисты, по словам наиболее тонко изучившего их идеи Ричарда Попкина, «стремились достичь атараксии, умственного покоя и невозмутимости» [1]. Однако в XVI-XVII веках для скептиков эпохи ранней модернити, придававших универсальное значение нравам и обычаям, которых они придерживались, «сомнения ведут не к успокоенности ума, а к кошмарам, в которых реальность исчезает, мы постоянно ошибаемся, Бог выглядит обманщиком, и все лишены какой бы то ни было истины и определенности» [2]. Античный скептицизм был жестом аристократизма. Добровольные скептики классической Греции надеялись, что если станет известно, что все в этом мире само по себе не является ни хорошим, ни плохим, и нет никакой возможности доказать, что вещи на самом деле имеют ту ценность, которую им приписывают, то страдания, порождаемые желаниями, уйдут вместе с агонией несбывшихся надежд и ужасом утраты; и поэтому они приветствовали радости успокоенности, приходящие вслед за этим. Ничего добровольного и аристократического нельзя обнаружить в «Пиррониевом
шим, лишен достаточно прочных оснований, чтобы на него можно было опереться. Одновременное появление двойственности, свободы и скептицизма не было простым совпадением. И можно лишь гадать, мыслимо ли вообще существование любого из элементов этой троицы без двух остальных. Скептицизм как таковой не был, разумеется, изобретением Нового времени. Он распространился по Европе, когда там началась эрозия прежней определенности средневековой христианской цивилизации, и, достигнув своего пика на пороге эры модернити, в XVII веке, принял форму новой интерпретации, перетасовки и пересмотра античных взглядов, задолго до этого выдвинутых Энесидемом или Секстом Эмпириком; он даже получил название «Пиррониева кризиса» - в честь греческого философа, основателя скептицизма как философского учения. При этом между скептической мыслью античности и ее новым перевоплощением было глубокое, даже значительное различие. Для Секста Эмпирика всеобщее сомнение могло и должно было воплотиться в психическом равновесии; для Монтеня и его последователей оно вело к помешательству. Античные пирронисты, по словам наиболее тонко изучившего их идеи Ричарда Попкина, «стремились достичь атараксии, умственного покоя и невозмутимости» [1]. Однако в XVI-XVII веках для скептиков эпохи ранней модернити, придававших универсальное значение нравам и обычаям, которых они придерживались, «сомнения ведут не к успокоенности ума, а к кошмарам, в которых реальность исчезает, мы постоянно ошибаемся, Бог выглядит обманщиком, и все лишены какой бы то ни было истины и определенности» [2]. Античный скептицизм был жестом аристократизма. Добровольные скептики классической Греции надеялись, что если станет известно, что все в этом мире само по себе не является ни хорошим, ни плохим, и нет никакой возможности доказать, что вещи на самом деле имеют ту ценность, которую им приписывают, то страдания, порождаемые желаниями, уйдут вместе с агонией несбывшихся надежд и ужасом утраты; и поэтому они приветствовали радости успокоенности, приходящие вслед за этим. Ничего добровольного и аристократического нельзя обнаружить в «Пиррониевом






