* В соответствии с этим мы должны искренне согласиться с точкой зрения Олдо-са Хаксли на тот же самый, по существу, вопрос «...большую часть своей работы писатель делает не с помощью размышлений, не с помощью применения формул, но благодаря эстетической интуиции. Ему есть что сказать и записать это в словах, которые он считает наиболее удачными с эстетической точки зрения. После этого произведение попадает к критику (читай: аналитику пропаганды), который считает, что писатель использовал определенный род литературных приемов, которые можно классифицировать в соответствующих главах поваренной книги. Но процесс в значительной степени необратим. Если у вас нет таланта, вы не сможете с помощью поваренной книги состряпать настоящее произведение искусства». «Т.Н. Huxley as man of letter», Huxley Memorial Lecture, 1932, 28; also Remy de Gourmont, La culture des idees. 1900, 51. — Примеч. автора.
могут написать подходящий сценарий, так и пропагандисты, мы уверены, не могут зачастую оценить психологический эффект их произведений без использования методики, подобной описываемой нами. Можно даже предположить, что сущность данной проблемы именно в том, что пропагандисты не могут обратить внимание на некоторый нежелательный скрытый смысл своих произведений.
Это объясняет частоту, с которой наше исследование обнаруживает неадекватность, которую, по-видимому, следует предвидеть заранее. Действительно, как правило, анализ реакции оказывается необходимым: он открывает множество других неточностей, которые мы сейчас не сможем обсудить подробно. Они относятся к способам представления. Например, рассмотрим приемы, которые радио перенимает у кино: быстрая смена сцен в передаче соответствует монтажу в визуальном представлении. Мы убедились на основе исследований, что эта техника в целом ведет к неясности передач для средних радиослушателей. Утрачивается последовательность. Люди уже не знают, о чем идет речь. Они теряют интерес. Во многом точно так же исторические ссылки часто проходят мимо ушей, если они не объяснены подробно.
Или рассмотрим вопрос об аутентичности документальных фильмов. Пропагандисты, возможно, удивятся, узнав, как часто аудитория сомневается в возможности сделать настоящий фильм о Гитлере в его горном убежище или о громадном Геринге в зале для конференций. Пропагандист знает, что это часть из немецкого фильма, но аудитория не знает этого. Недоверие зарождается и распространяется. Точно так же мы видим, как множество ошибок в утверждениях, которые делают дикторы на радио или официальные лица в своих речах, истощают терпение слушателей.
Мы постоянно подчеркиваем необходимость получения подробных данных о реакциях людей на пропаганду. Для этой цели часто используется прибор, который мы назвали «программный анализатор». Этот прибор назван так, поскольку он впервые был использован для исследований на радио, но он также может быть использован для любой информационной передачи, которая идет в течение определенного времени (такой, как фильм). Цель программного анализатора можно объяснить кратко. Интервью о реакции человека на пропаганду, конечно, должно быть отложено до окончания фильма или радиопрограммы, поскольку мы не хотим прерывать нормальный поток переживаемого аудиторией впечатления. Как мы можем потом помочь аудитории вспомнить свои реакции на отдельные аспекты материала? Если интервьюер будет упоминать определенные сцены или эпизоды, то он определит предмет, находящийся в центре внимания. Более
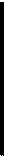
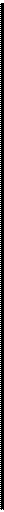


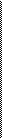 того, описание сцены интервьюером может также повлиять на оценку опрашиваемым своего впечатления. Анализатор программы служит для того, чтобы снять такое ограничение.
того, описание сцены интервьюером может также повлиять на оценку опрашиваемым своего впечатления. Анализатор программы служит для того, чтобы снять такое ограничение.
Каждый человек, пока он смотрит фильм или слушает радиопрограмму, если ему нравится то, что представлено, нажимает зеленую кнопку правой рукой, аесли не нравится, то нажимает красную кнопку левой рукой. Если он остается равнодушным, то он не нажимает ни одну из кнопок. Эти реакции фиксируются на движущейся ленте, которая синхронизирована с фильмом или радиопрограммой. Таким образом, представители аудитории регистрируют свое одобрение или неодобрение, как они реагируют на материал. Причины и особенности этих реакций позднее определяются с помощью направленного интервью, которое мы упоминали.
Два преимущества этой процедуры очевидны. Во-первых, аудитория сама выбирает те части материала, которые достаточно важны для того, чтобы стать объектом подробного интервью. Каждый слушатель дает общий последовательный отчет о своих реакциях, классифицированный натри группы: моменты, которые повлияли нанего позитивно, негативно или нейтрально.
Во-вторых, все зафиксированные на ленте реакции аудитории можно объединить для того, чтобы получить общую «кривую реакции». Этот график удобен для статистической обработки, которая дает возможность определить главную причину благоприятной или неблагоприятной реакции. И кроме этого, такой график дает вместе с первоначальным анализом содержания крайне полезное руководство для направленного интервью.
Специальная пропаганда или пропаганда фактов
Может быть, наше обсуждение уже выполнило свою главную задачу. Оно, вероятно, дало вам некоторое представление о процедуре, используемой в психологическом анализе пропаганды. А сейчас обратимся к более общим выводам, которые мы получили в ходе нашей работы.
Одна из наиболее заметных реакций, которую мы наблюдали в нашем исследовании, — это распространяющееся недоверие к пропаганде, проявляемое многими людьми. Пропагандисты вызывают огромную эпидемию. Любое утверждение о человеческих ценностях, вероятно, будет снабжено ярлыком «просто пропаганда» и сразу обесценено. Прямое выражение чувств кажется подозрительным. Мы приводим типичный комментарий обычного человека с улицы, который считает, что другие стремятся повлиять на него:
Я думаю, что слишком глупо влиять на зрелый ум. У меня все это вызывает совсем другой род реакции, чем полагают. Я считаю, что они хотят вызвать у меня чувство патриотизма, но я думаю, это вызывает у меня противоположную реакцию.
И в придачу в конце — бодрое «Звездное знамя». Все преданы флагу, но не любят, когда он развевается перед их лицами.
Это недоверие к чувствам не удивит вас. Очевидно, на войне было не так уж много фанфар. Психоаналитик Эрнст Крис указал на это, говоря о наших врагах и о нас самих: «Солдаты уходят на войну в печали и молчании»10. Есть такое же высказывание в одном из наших исследований:
В последнее время мы не видели солдат, марширующих, как в 1917-м. Сейчас мы не сентиментальны.
Какое значение имеет такое отсутствие порывов энтузиазма для пропагандиста, который стремится оказать всевозможную поддержку военным действиям?
Согласно нашим наблюдениям, подобное недоверие направлено главным образом против пропаганды, которая явно стремится повлиять на людей или возбудить их, взывая к их чувствам. Попытки вызвать сильные эмоции обесценены. Но этот скептицизм носит ограниченный характер. Та же самая аудитория, которая воздвигла защиту от пылких призывов к патриотическим чувствам, проявляет готовность признать значение другого типа пропаганды, который мы условно назвали специальная пропаганда или пропаганда фактов.
Начнем с наблюдения, сделанного в ходе наших исследований. Мы сразу заметили глубокий интерес к подробным обстоятельным фактам. Факты важнее всего. Эту установку отражает следующий (приведенный в одном из наших исследований) комментарий человека:
Большинство людей [sic] не любят сорт ура-патриотизма, который
вас возбуждает. Мне [sic] нравятся факты.
Это желание особой, почти специфической информации иногда приобретает наивные формы, как можно увидеть из следующего замечания о документальном фильме, подчеркивающем силу нацистов:
10 Интересно, что, опираясь в своих рассуждениях на совсем другие пропагандистские материалы, Эрнст Крис независимо пришел к почти таким же выводам. См. его поучительную статью «Some problem of war propaganda», The Psychoanalytic Quarterly, 1943, 12, 381-399. - Примеч. автора.
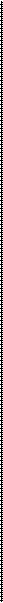
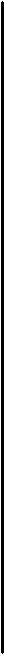 Я был действительно удивлен. Я имею в виду, что не верю всему прочитанному в газетах. Но тому, что вы действительно видите собственными глазами, и тому, что документально подтверждено, вы должны поверить.
Я был действительно удивлен. Я имею в виду, что не верю всему прочитанному в газетах. Но тому, что вы действительно видите собственными глазами, и тому, что документально подтверждено, вы должны поверить.
Одна из наиболее впечатляющих сцен в вышеупомянутой пропагандистской радиопрограмме в подробных деталях описывала, как скорость всего конвоя нужно было соразмерять со скоростью самого медленного корабля. Погружение в этот слой специальной информации приводило к значительному воздействию, и возникало понимание того, что люди из торгового флота добровольно жертвовали собой ради общего блага. В этих фактах есть моральное содержание («конечно, мои жертвы несопоставимы с их жертвами» — вывод слушателя), которое могли принять те, кто отвергал прямые призывы того же рода. Фильмы, показавшие сцены боя или бомбардировки, оказывались эффективными, если в фокусе скорее были детали операции, чем подчеркнутое прямое пропагандистское «сообщение» для аудитории. Рассказывает факт, а не пропагандист.
Теперь мы можем спросить: почему преобладает интерес к фактам? Каковы функции этого интереса? Конкретный эпизод, наполненный обстоятельными деталями, служит в качестве прототипа или модели, которая помогает людям ориентироваться в том мире, в котором они живут. Эпизод обладает ценностью для ориентации. Для большей части населения исторические события, которые они переживают, являются полной неразберихой. Нации, которые вчера были врагами, становятся союзниками на следующий день. Будущее кажется мрачным и безысходным или ярким и обещающим. У многих нет времени или возможности понять тенденции и силы, стоящие за этими событиями, даже если они понимают, как тесно эти события связаны с их собственной жизнью. Все это подчеркивает сильную потребность в ориентации. Конкретные факты играют роль модели, исходя из которой можно объяснить и понять более сложные события.
Есть множество иллюстраций. Так, один эпизод в пропагандистской радиопрограмме произвел заметное впечатление на аудиторию: во время последней войны Франклин Делано Рузвельт, в то время помощник министра военно-морского флота, сопровождал экипаж подводной лодки при ее испытании непосредственно после ряда катастроф с подводными лодками. Это сообщение оказывается более убедительным и эффективным, чем простое утверждение о мужестве и большом опыте нашего президента. Этот эпизод полностью выполнил объяснительную функцию.
Он показал, что он не был трусом: и если солдаты были готовы пойти ко дну, то и он был готов; этот человек лучше, чем кто-либо другой, может быть президентом, поскольку он сам испытал и делал такие вещи.
Точно так же, когда в фильме специально показали фактическое отсутствие бронетанковых подразделений в Англии после Дюнкерка, этот факт эффективно интегрировал различные несвязанные вопросы. Об этом неоднократно вспоминали в интервью. Этот факт помог кристаллизовать (так сказать) изобретательность и мужество англичан перед лицом значительно превосходящих сил. Это оказалось эффективным, в то время как непосредственная оценка англичан могла вызвать скептицизм и сомнение. Факты, которые интегрируют и «объясняют» главный ход событий, составляют важнейший компонент пропаганды фактов.
Мы можем сделать еще одно общее наблюдение о пропаганде фактов. Мы заметили, что есть определенный тип фактов, который имеет желаемое пропагандистское значение и является наиболее эффективным. Это «сенсационные факты», тип, используемый в колонках «верьте или не верьте» и юмористических программах. Они эффективны по крайней мере по трем причинам. Во-первых, они ценны для привлечения внимания. Сенсационный факт выделяется как «изображение» на «фоне». Во-вторых, такие пикантные новости имеют ценность для их распространения. Они легко становятся частью пространной беседы и небольшого разговора («А вы знаете, что...»). Основной смысл пропаганды, таким образом, оказывается у всех на устах. В конце концов, эти интегрирующие сенсационные факты ценны для доверия. Они «голые», как точно говорит поговорка. Невелика вероятность, что они вызовут недоверие, которое так глубоко укоренилось в народе.
Пропаганда фактов имеет и другие характерные черты, которые отличают ее от пропаганды, которая стремится убедить громкими призывами и прямой проповедью. Пропаганда фактов не пытается просто указать людям, куда им идти, а скорее показывает им путь, который им следует выбрать, чтобы добраться до цели. Так сохраняется чувство личной автономности. Человек принимает решение. Его решение добровольное, а не по принуждению. Именно косвенным образом, а не с помощью предписаний действует пропаганда фактов. Она имеет ценность руководства. Возрастающая сила факта имеет свой собственный импульс, так сказать. Практически она является силлогизмом с имплицитным выводом, но этот вывод делает аудитория, а не пропагандист. Рассмотрим подходящий пример: недавно военным агентством была издана брошюра, адресованная семьям солдат, находящихся на службе в вооруженных силах, чтобы убедить их не передавать никому содержание писем, полученных из-за границы. Лишь небольшой акцент был сделан на теме, рассказывающей, как неосторожно сказанные слова стоят жизней и кораблей. Вместо этого боль-
24 Meprou «Социалъп. теория»

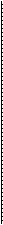
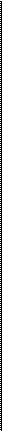
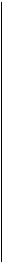
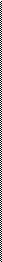

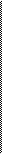 шая часть брошюры была посвящена подробному описанию методов, которые использует враг для получения полной информации из частей и обрывков, собранных агентами в разных случаях и в разных местах. Исследования показали, что брошюра достигла цели и оказалась убедительной, позволив читателю самому сделать неизбежный вывод из тщательно подобранного множества фактов. Добровольный вывод был бы менее вероятным в результате разочарования, которое часто следует за пропагандистской проповедью. Риторические призывы могут вызвать временное согласие с ними, а затем — упреки; автономные решения под нарастающим воздействием фактов не приводят к такой оценке.
шая часть брошюры была посвящена подробному описанию методов, которые использует враг для получения полной информации из частей и обрывков, собранных агентами в разных случаях и в разных местах. Исследования показали, что брошюра достигла цели и оказалась убедительной, позволив читателю самому сделать неизбежный вывод из тщательно подобранного множества фактов. Добровольный вывод был бы менее вероятным в результате разочарования, которое часто следует за пропагандистской проповедью. Риторические призывы могут вызвать временное согласие с ними, а затем — упреки; автономные решения под нарастающим воздействием фактов не приводят к такой оценке.
Довольно интересно, что, по-видимому, и наши враги также обнаружили силу специальной пропаганды. Этот тип пропаганды, так же как любое другое средство, можно использовать, а можно и злоупотреблять им. Псевдофакты могут вытеснить факты. Некоторые наблюдатели комментировали нацистскую «подтасовку» реальности. Например, сообщалось, что до вторжения нацистов в Бельгию туда был заброшен немецкий офицер. У него обнаружили план вторжения, абсолютно непохожий на то, что реально планировалось. Или еще один пример: первая ночная бомбардировка Берлина. Рассказывали, как в швейцарских и шведских газетах, которым доверяли в Англии, нацисты внедряли сообщения о больших разрушениях. Эти сообщения были переданы по немецкому внутреннему радио (как английские), и местному населению предлагали сравнить реальный урон и самим увидеть, что сообщения были неверными. Таким образом, вероятно, многие люди не могли избежать вывода, что англичане солгали. Эффект такого рода внушения был, по-видимому, значительно больше, чем если бы немецкое радио прямо опровергло правдивость англичан.
Между прочим, можно заметить, что логика пропаганды фактов не слишком далека от логики прогрессивного образования. Как правило, в прогрессивных школах учителя не указывают, что дети должны делать и во что должны верить, но скорее создают ситуации, которые заставляют их выбирать для себя поведение и убеждения, которые учителя считают приемлемыми.
Ваш собственный опыт показывает, что пропаганда фактов не является новой концепцией. Мы только сформулировали эту идею, чтобы она представляла определенную ценность для планирования пропагандистских программ. Широко распространенное недоверие и скептицизм, доходящий до крайностей цинизма, подтачивают силы. Но поскольку они существуют, их следует принять во внимание. Если пропаганда полностью сведена к проповеди, она рискует усилить не-
доверие. Пропаганду фактов можно использовать для изживания цинизма, заменив его общим пониманием.
Мы не считаем, что проповеди полностью ушли в прошлое. Общие ценности и общие установки все еще необходимо укреплять у значительной части населения, если пропаганда оказывается эффективной. Но наши наблюдения принесут пользу тем из нас, кто задумывается о конструктивной послевоенной эпохе. Нам не следует ждать той поры, когда послевоенные проблемы навалятся на нас, чтобы понять, насколько для объединения общества необходимо обращаться к средствам пропаганды.
И, в конце концов, нам не следует преувеличивать роль пропаганды. В конечном счете пропаганда не может добиться своих целей, если она противоречит событиям и силам, лежащим в основании этих процессов, как уже обнаружили фашисты. Пропаганда не заменяет социальную политику или социальную практику, но она помогает людям понять и политику, и практику.
Н
S 93
Л 5
CQ S
А
Чg
I
Ss
О
С
Введение
Часть IV состоит из пяти статей, относящихся к социологии науки1. Это специализированная область исследования, которую можно рассматривать как подраздел социологии знания, занимающийся социальной средой того особого рода знания, который проистекает из контролируемого эксперимента, или контролируемого наблюдения, и постоянно к нему возвращается.
Предметом социологии науки в самом широком смысле является динамическая взаимозависимость между наукой как постоянной социальной деятельностью, в которой рождаются культурные и цивилиза-ционные продукты, и окружающей социальной структурой. Объектом изучения для нее служат взаимные связи между наукой и обществом, и те, кто всерьез посвятил себя исследованиям в области социологии науки, были вынуждены это признать. Однако вплоть до самого последнего времени взаимности этих связей уделялось неравномерное внимание: если влиянию науки на общество его уделялось много, то влиянию общества на науку — мало.
Влияние, оказываемое наукой на социальную структуру, особенно через ее технологические побочные продукты, совершенно очевидно, и, возможно, именно поэтому оно издавна было объектом если уж не систематического исследования, то, во всяком случае, постоянного интереса. Ясно видно, что наука является динамической силой социальных изменений, пусть даже не всегда предвиденных и желанных. На протяжении последнего столетия даже те ученые, которые занимались естественными науками, время от времени вырывались из плена своих лабораторий, дабы с гордостью и восхищением признать социальные последствия своей работы либо с ужасом и стыдом от них отмежеваться. Атомный взрыв над Хиросимой
© Перевод. Николаев В.Г., 2006
' Подробнейший обзор этой области исследования см. в: Bernard Barber, Science and the Social Order (Glencoe, 111.: The Free Press, 1952); см. также Bernard Barber, R.K. Merton, «Brief Bibliography for the Sociology of Science», Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, May 1952, Vol. 80, p. 140—154. — Примеч. автора.
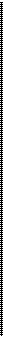
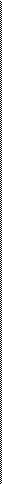
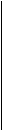 лишь подтвердил то, что уже знал каждый. Наука имеет социальные последствия.
лишь подтвердил то, что уже знал каждый. Наука имеет социальные последствия.
Но если последствия науки для общества были уже давно замечены, то последствия различных социальных структур для науки — нет. Лишь очень немногие из ученых-естественников и ненамного больше социальных ученых уделяли внимание различным влияниям социальной структуры на темпы развития науки, центры сосредоточения ее интересов и, возможно, само ее содержание. Трудно сказать, откуда берется это нежелание изучать воздействие, оказываемое на науку ее социальной средой. Возможно, это нежелание идет от ошибочного мнения, будто признать данный социологический факт значило бы поставить под угрозу автономию науки. Возможно, считается, что объективность — ценность, занимающая столь важное место в этосе науки, — подвергается опасности тем фактом, что наука есть организованная социальная деятельность, что она предполагает поддержку со стороны общества, что степень этой поддержки и типы исследований, которым она оказывается, в разных социальных структурах различны, равно как и рекрутирование научных талантов. Возможно, здесь замешано и некое чувство, будто наука остается более чистой и незапятнанной, если имплицитно понимать ее как нечто, развивающееся в социальном вакууме. Как слово «политика» в настоящее время несет в себе для многих коннотацию с низменной коррупцией, так, возможно, и выражение «социальные контексты науки» коннотирует для некоторых ученых-естественников с привнесением в науку интересов, чуждых ей как таковой.
Или, возможно, это нежелание проистекает из не менее ошибочного мнения, будто признать эти связи науки с обществом значило бы поставить под сомнение бескорыстные мотивы ученого. Может казаться, будто признание этих связей предполагает, что ученый стремится в первую очередь и прежде всего не к развитию знания, а к возвеличению самого себя. Мы уже несколько раз указывали на протяжении книги на этот известный тип ошибки: суть ее — в ошибочном принятии уровня институционального анализа за уровень мотиваци-онного анализа. Как показано в некоторых далее следующих главах, ученые могут быть мотивированы самым разным образом: бескорыстной страстью к познанию, надеждой на извлечение экономической выгоды, активной (или, как называет ее Веблен, праздной) любознательностью, агрессией или конкуренцией, эгоизмом или альтруизмом. Однако в разных институциональных обстановках одни и те же мотивы находят разное социальное выражение, равно как и в некоторой данной институциональной обстановке могут принимать приблизительно одинаковое социальное выражение разные мотивации. В од-
ном институциональном контексте эгоизм может заставить ученого развивать отрасль науки, полезную для военного дела; в другом институциональном контексте эгоизм может привести его к работе над исследованиями, не имеющими никакого видимого военного применения. Делать предметом рассмотрения то, каким образом и в какой степени социальные структуры определяют направление научных исследований, не значит обвинять ученого в его мотивах.
Однако где исследования и работы социальных ученых потерпели неудачу, там за них постарались события истории. Ход недавней истории делал все более затруднительным — даже для ученых, уединившихся в тиши своих лабораторий и редко выбирающихся в более широкое гражданское и политическое общество — дальнейшее пренебрежение тем фактом, что сама наука различным образом зависит от социальной структуры. Если отобрать лишь некоторые из этих событий, то в первую очередь следует назвать появление нацистской Германии с ее драматическим воздействием на природу, качество и направленность науки, культивируемой в этой стране. Вместо того чтобы признать это крайним и, следовательно, показательным случаем некоторой более общей связи и вместо того чтобы увидеть в этом свидетельство того факта, что наука для полного воплощения своего духа требует особых форм социальной структуры, некоторые ученые-естественники преподносят это как случай исключительный и патологический, из которого ровным счетом ничего не следует применительно к более общей ситуации. Между тем командование силами науки во время войны умножило число ученых, признающих взаимодействие между наукой и социальной структурой. А совсем недавно политизация науки в Советской России привела еще и других к тому же запоздалому заключению.
С проявлением этих процессов, которые следуют по пятам одно за другим настолько настойчиво, что кажутся едва ли не одним непрерывным событием, к признанию связей между наукой и социальной структурой пришли многие из тех, кто раньше думал об этих связях, если думал о них вообще, как о выдумке марксистской социологии. (Например, Джеймс Б. Конант в своей превосходной книжке «О понимании науки» все еще говорит о «взаимосвязи между наукой и обществом» как о предмете, «по поводу которого очень много было сказано в последние годы нашими друзьями-марксистами».) Как мы достаточно подробно увидели в главе XIV, Маркс и Энгельс действительно предложили общую концепцию этих взаимосвязей и осудили практику такого написания «истории наук, как будто бы они свалились на нас с неба». Однако со времен Маркса и Энгельса было проведено обидно мало эмпирических исследований отношений между
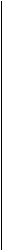
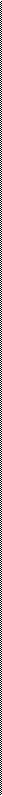
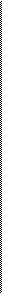 наукой и социальной структурой. Все те же старые исторические примеры, постаревшие от времени и поизносившиеся от частого применения, периодически извлекались наружу с тем, чтобы показать, что технологическая потребность иногда приводит ученых к сосредоточению внимания на тех или иных исследовательских проблемах. В такой гипертрофированной верности ранним концепциям Маркса и Энгельса находил выражение пиетет, но сдерживалось развитие социальной науки. Либо ошибочно принимались за исследование старые цитаты, снабженные новыми иллюстрациями. Сформировался даже некоторый образец мышления и письма, который, возможно, подошел бы религиозной группе, где неизменная традиция самое главное, адревнее откровение должно оставаться неприкосновенным. Однако такой образец вряд ли подходит для науки, в том числе социальной науки, где отцов-основателей почитают не ревностным повторением их древних открытий, но расширением, модификацией, а довольно часто и отвержением некоторых их идей и открытий. В социологии науки, как и в других областях, нам было бы полезно вернуться к мудрости, заключенной в апофегме Уайтхеда: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, — потерянная наука».
наукой и социальной структурой. Все те же старые исторические примеры, постаревшие от времени и поизносившиеся от частого применения, периодически извлекались наружу с тем, чтобы показать, что технологическая потребность иногда приводит ученых к сосредоточению внимания на тех или иных исследовательских проблемах. В такой гипертрофированной верности ранним концепциям Маркса и Энгельса находил выражение пиетет, но сдерживалось развитие социальной науки. Либо ошибочно принимались за исследование старые цитаты, снабженные новыми иллюстрациями. Сформировался даже некоторый образец мышления и письма, который, возможно, подошел бы религиозной группе, где неизменная традиция самое главное, адревнее откровение должно оставаться неприкосновенным. Однако такой образец вряд ли подходит для науки, в том числе социальной науки, где отцов-основателей почитают не ревностным повторением их древних открытий, но расширением, модификацией, а довольно часто и отвержением некоторых их идей и открытий. В социологии науки, как и в других областях, нам было бы полезно вернуться к мудрости, заключенной в апофегме Уайтхеда: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, — потерянная наука».
Есть масса институциональных данных, свидетельствующих о том, что многочисленные, ныне широко признанные проблемы, касающиеся связей между наукой и социальной структурой, так и не были до конца изучены в эмпирических исследованиях: ни в одном из университетов нашей страны до сих пор нет института изучения социальных связей науки.
Этим связям между наукой и ее социальной средой посвящены последние пять глав этой книги. Написанные в разное время на протяжении нескольких лет, эти статьи преследуют две основные цели. Во-первых, в них предпринимается попытка проследить различные способы взаимозависимости между наукой и социальной структурой, а сама наука трактуется как социальный институт, различными способами связанный с другими институтами эпохи. И во-вторых, в них предпринимается функциональный анализ этой взаимозависимости, в ходе которого особое внимание уделяется аспектам интеграции и дезинтеграции (malintegration).
В главе XVII устанавливаются четыре типа связи между социальной структурой и развитием науки; особое внимание уделяется обществам, в которых имеется высокоцентрализованное политическое ядро. Прослеживаются точки напряжения между институциональными нормами науки и институциональными нормами политической диктатуры. Кроме того, в ней показываются напряжения, которые развиваются в менее централизованных обществах, таких, как наше,
между высокой оценкой науки и ее текущей утилизацией в военных целях, а также в целях создания нового производительного оборудования, внедрение которого иногда приводит к безработице. В этой главе развивается гипотеза, что такие социальные последствия текущего использования науки закладывают основы для бунта против науки, сколь бы ошибочным в выборе своей цели этот бунт ни был. Среди причин этой враждебности в отношении науки есть одна, нашедшая выражение в приговоре, который еще совсем недавно казался подозрительно метафорическим, а ныне воспринимается уже почти буквально: «На науке в значительной степени лежит ответственность за обеспечение человека теми механизмами разрушения, которые, как говорится, могут погрузить нашу цивилизацию в вечную ночь и хаос».






