В первобытности детская игра обнаруживает прямые генетические связи с играми детенышей у животных, и к ней приложимы все те характеристики последних, которые дают им этологи, изучающие игру уже более ста лет как форму биологической жизнедеятельности, имеющую серьезные адаптивные функции (например, К. Гросс). Однако игры людей — и прежде всего детские игры — с самого начала обнаруживают заключенный в них сверхбиологический слой — социокультурный: поскольку человеческие качества, которые игра должна была формировать у детей, все более и более отличались от таких качеств животных, которые формируются в играх медвежат, волчат или обезьяньих детенышей, постольку игры детей стали обретать новые, не инстинктивные, а культурно-транслируемые качества, оказываясь и несравненно более разнообразными, чем игры животных, и постоянно обновляли свой репертуар и постепенно наращивали свой интеллектуальный потенциал, в конечном счете резко повышая роль индивидуальных качеств ребенка в игровом действии. Ярче всего культурный характер детской игры выявлялся в тех играх, которые принято называть "ролевыми" или "сюжетными": их суть состояла в подражании действиям взрослых — такова, скажем, игра мальчиков в войну. Очевидно, что она формировала ребенка и духовно, и телесно.
Рядом с ролевыми играми с самых отдаленных времен культура изобрела состязательные игры, которые мы сейчас называем спортивными; но они были по сути своей таковыми уже в первобытности, хотя тогда еще не существовало спорта как такового. Эти игры—состязания в силе, ловкости, меткости были главным образом инструментом физической культуры, средством развития человеческого тела, извлечения тех возможностей, которые таились в его природных данных, но которые только культура была способна выявить и развить.
Так тремя каналами — через игру, обряд и труд — человеческое тело выходило из природы в культуру, приобретало второе "подданство". Эту двойственность своей природно-культурной данности и функционирования оно сохраняет и по сей день — и сохранит, конечно же, до тех пор, пока человек будет жить на Земле, но при том, что характер культурации тела исторически менялся. Судьбы физической культуры были связаны с рядом обстоятельств: с развитием классового неравенства, которое освободило от физического труда одну часть общества, а для другой превратило труд в каторгу, кабалу, низведя раба и рабочего в подобие работающего животного (как выразителен однокоренной характер в русском языке слов "работа", "раб", "рабочий"!) или в "говорящее орудие", как назвал раба Аристотель и как изобразил рабочего в "Новых временах " Ч. Чаплин; с развитием спорта — деятельности, специально посвященной физическому развитию человека, культурный смысл которой достаточно отчетливо выражен в самом понятии "физическая культура"; с широким развитием специализированной лечебной деятельности, призванной обеспечить здоровую жизнь и нормальное развитие человеческого тела, — такова медицинская культура; со специализацией практической деятельности людей — скажем, военных и штатских, спортсменов и инже
неров, танцоров и поэтов; с общими процессами дифференциации первоначального семиотически-аксиологически-художественно-эстетического синкретизма культуры, который вел к автономности различных внеутилитарных функций тела в его культурном бытии — скажем, солдата, спортсмена, танцора, рекламиста.
Рассматривая более пристально исторические перипетии роли труда в жизни человеческого тела, следует сразу указать на ее противоречивость, амбивалентность. С одной стороны, участие в физическом труде, начинавшееся уже в детстве, приводило в среде трудящихся к формированию особого телесного типа, образовавшему резкий контраст коренастого мускулистого тела крестьянина, рабочего, воина и физически немощного тела аристократа или полностью погруженного в духовную жизнь интеллигента. Искусство четко фиксировало эти различия, изображая типичных представителей разных классов, — например, в картинах П. Брейгеля и А. Броувера, Д. Веласкеса и А. Ватто, И. Репина и Н. Ярошенко, К. Менье и И. Шадра. Физическая дегенерация становилась уделом классов господ, освобожденных от физического труда, — такова закономерность, неоднократно прослеживавшаяся в художественной литературе последних столетий и принимавшая подчас символический смысл (например, в романах Э. Золя, У. Фолкнера, М. Горького).
Чрезвычайно интересно в этом отношении осмысление Н. Чернышевским эстетических последствий зависимости физического развития человека в классовом обществе от его участия в труде — сравнение трех типов женской красоты:
красоты крестьянки, светской дамы и купчихи; в проницательности этих суждений убеждает сопоставление женских образов, созданных классиками русской живописи XIX— XX вв., от А. Венецианова и К. Брюллова до М. Нестерова и Б. Кустодиева. Не менее выпукло демонстрирует культурные параметры человеческого тела влияние на него тех требований, которые предъявляли гладиаторство и рыцарство, монашество и культура йоги, современный "культуризм" (опять выразительнейшее слово!), и наркомания, и многие, многие другие социокультурные факторы. В конечном счете само соотношение биологических и культурных качеств тела оказывается феноменом культуры — таковы диаметрально противоположные соотношения физического и духовного, телесного и интеллектуального в средневековом аскетизме и в современном "культуризме", таков идеал гармонии тела и духа в античности и в культуре Возрождения. Если в процессе десакрализации и демократизации культуры влияние обряда на жизнь человеческого тела неуклонно сокращалось, то роль спорта становилась все более широкой. Спорт вырос из обряда, но со временем его гимнастические, акробатические, силовые средства стали высвобождаться, деритуализироваться, становились самоцельными; это роднило их с игрой и рождало новый культурный синтез — уже не магико-гимнастическии, а гимнастически-игровой. История засвидетельствовала некий рубеж в этом процессе — организацию в Древней Греции знаменитых Олимпийских игр, сохраняющих поныне свою действенность и выполняющих важную культурную миссию — не чисто спортивного, но и эстетического, и этического, и политического характера.
Хотя и в других своих проявлениях спорт всегда сохранял связи с общественной жизнью и духовной культурой, суть его как специализированной, а нередко и профессионализированной деятельности заключается в том, что он делает самоцельной жизнь человеческого тела, доставляет человеку радость от выявления огромных, кажущихся чуть ли не беспредельными, возможностей, заключенных в его теле, когда оно развивается, тренируется, совершенствуется. Деятельность эта может иметь — и часто имеет — и утилитарные цели (медицинские, военные, производственные, коммерческие, престижные), однако ее культурная природа, которая и позволяет говорить здесь о "физической культуре", состоит в том, чтобы сделать развитие человеческого тела самоцельным, т. е. значимым физически и эстетически.
Но был и другой путь культурного развития тела, также выросший из обряда, — я имею в виду художественную деятельность. Многообразие ее средств объясняет лишь частный "захват" ею человеческого тела — прежде всего, хореографическим компонентом древнего мусического искусства, затем — актерским творчеством, поскольку оно отслаивалось от танца и приобретало самостоятельное существование на сцене (уже в античном театре). Тем самым тело человека оказывалось не только культурным объектом в том смысле, какой придавали ему труд и спорт, но приобретало и второй слой культурного значения — семиотический:
жизнь тела в танце и на сцене становилась особым способом высказывания, особым знаковым текстом, т. е. превращалась в язык жеста в его хореографической, пантомимической, актерской модификациях; о них пойдет у нас поэтому речь специально, когда мы будем рассматривать языки культуры, в частности, художественные языки, сейчас отмечу только, что в художественную культуру человеческое тело вошло не только в этом прямом его использовании как материальной реальности, но и в косвенной форме его изображения в живописи, графике, скульптуре, затем в фотоискусстве и киноискусстве и его описания в художественной литературе. Начиная с древних изображений — так называемых "палеолитических Венер" — и описаний физического облика героев мифов, сказок, легенд и кончая созданием пластических образов человека в современном искусстве, оно решало двоякую задачу: с одной стороны, фиксировало то конкретное соотношение природного и культурного, биологического, физического и психологического, которое было свойственно человеку на каждом этапе истории общества и в разных этнокультурных системах, а с другой — создавало некие идеальные модели этой окультуренности человеческой природы, оно способствовало утверждению данной меры культурности и данного культурного содержания в реальной жизни людей, воспитывая определенное отношение человека к своему телу. В этом отношении весьма показательным могло бы быть сравнение трактовки обнаженного тела на разных этапах истории искусства — древневосточного и античного, средневекового и ренессансного и в Новое время в искусстве классицизма и рококо, натурализма и кубизма, символизма и сюрреализма.
Третья изначальная сфера окультуривания человеческого тела — детская игра — сохраняла в ансамбле своих культурных функций во всей последующей истории культуры функцию формирования тела растущего человека. Следует лишь заметить, что от стихийного формирования этой способности игры культура переходила к сознательному и целенаправленному использованию детской педагогикой таких возможностей включения в игру элементов физической культуры. и спорта, которые и с медицинской, и с психологической, и с этической, и с эстетической точек зрения обладают максимальными возможностями развития здорового и гармонично сложенного тела ребенка.
Подытоживая сказанное, можно заключить, что в культуре функционирование человеческого тела реализует все возможности, которыми она располагает, и потому может быть представлено в виде спектра, охватывающего соседствующие и переходящие друг в друга конкретные формы физической культуры. Один край этого спектра лежит на границе культуры и натуры, ибо физическая культура имеет материальный природный субстрат, определяющий ее физические и биофизиологические свойства, которые не отменяются культурой, а "снимаются" ею. Вхождение же тела в культуру начинается, как мы видели, и логически, и генетически — с его утилитарного функционирования. Подобно создаваемым человеком вещам, его тело обретает "потребительскую стоимость", т. е. способность удовлетворять разнообразные практические потребности, рождающиеся в культурном бытии людей; таково здоровье, поскольку оно обеспечивает не саму физическую жизнь, а работоспособность человека и его способность к полноценному общению с другими людьми — назовем эту ипостась культурного бытия тела "работоспособным, телом".
Практическое функционирование тела в культуре с самого начала таит возможность его превращения в носителя различных социальных значений, различных типов информации; так тело человека становилось материальной основой особого языка культуры, приобретая семиотические свойства. Отмеченные выше различия в телосложении монаха и воина, аристократа и крестьянина, рабочего и интеллигента, порожденные особенностями их образов жизни, становились знаками социальной принадлежности этих людей. Маленькая ножка китаянки или осиная талия европейской аристократки — продукты культуры, работающие как ее знаки, символы социального положения; это касается в еще большей степени прически, грима, одежды, которые можно рассматривать как "второе тело" человека, несравненно более доступное культурной обработке, — все это вместе взятое оказывается языком, на котором человек представляет себя окружающим. Тело обретает в определенных условиях и религиозный смысл, и политический — вспомним изможденные тела средневековых аскетов, символизировавшие степень их духовной самоотдачи божеству, или роль бороды и бритого лица в русской политической истории, расистское противопоставление антропологических признаков "высшей" расы и "низшей" (черты белой расы могли превозноситься над желтой и черной с одинаковым успехом, равно как в пределах белой расы физические черты "бледнолицых" арийцев в противопоставлении облику семитов или индейцев). Сама степень открытости тела оказывалась культурным текстом. — сопоставим противоположные позиции античной культуры и мусульманской, чадру восточной женщины и глубокое декольте европейской, стыдливость христианского укрытия тела одеждой и бросивший вызов традиционной морали стриптиз, разные типы обнаженности в "Рождении Венеры" С. Боттичелли, в "Источнике" Ж. Энгра и в "Олимпии" Э. Манэ. Так и в быту, благодаря разному отношению к одежде, и в искусстве, моделирующем отношение каждой
культуры к характеру и мере обнажения тела, оно становится языком культуры. Так семиотический аспект функционирования тела в культуре делает его не только работоспособным, но и говорящим. Третья полоса спектра культурных функций человеческого тела — эстетическая. История культуры показывает, что уже в глубочайшей древности и утилитарные, и информационные функции тела начинали оборачиваться его способностью возбуждать особого рода эмоциональные реакции специфически-культурного свойства, недоступные животным, ибо рождались они на уровне "духовных чувств" (К. Маркс), а не простых физиологических возбуждений;
вызывающие эти переживания свойства предметов получили впоследствии наименование красоты, изящества, грациозности, величественности и т. п., им противостояли уродство, неуклюжесть, вульгарность, комизм и т. д. Происхождение и сущность этого эстетического измерения человеческого тела — культурные, а не биологические, что бы ни говорили наивные "природники" в прошлом и в наше время, которым кажется, что красота есть объективно-реальное природное свойство материальных объектов, в том числе и облика человека, и которые с энтузиазмом, подобным страсти искателей "философского камня" или конструкторов "вечного двигателя", ищут те конкретные натуральные свойства человеческого тела, которые делают его "объективно красивым", так сказать, "красивым в-себе-и-для-себя". Между тем, красота человеческого тела есть природно-кулътурное, а не чисто биологическое — системное, как мы сказали бы сегодня, — свойство, т. е. итог взаимодействия двух переменных: особенностей организма с его анатомическими и физиологическими характеристиками и особенностей определенного типа культуры, в котором эти характеристики приобретают тот или иной ценностный смысл, ибо красота есть ценность, а не совокупность физических свойств.
Придавая человеческому телу эстетическую ценность, культура порождает соответствующее направление его функционирования, лежащее за пределами материально-утилитарных потребностей бытия: это проявляется и в восприятии телесной красоты, как первом сигнале зарождающейся любви, — именно как природно-духовного, а не чисто физиологически-животного отношения полов (вспомним мудрый афоризм Стендаля: "Красота — это обещание счастья"); это же сказывается и в эстетической оценке движений работающего человека, которая пробуждает и развивает соответствующее отношение к самому труду (вспомним знаменитое толстовское описание крестьянской работы или описание труда ремесленника в "Кола Брюньоне" Р. Роллана); это объясняет и то, что деятельность спортсмена оценивается не только по абсолютным техническим показателям (метров, секунд, голов и т. д.), но и по эстетическому впечатлению от движений его тела и самого его телосложения — особенно в гимнастике, легкой атлетике, спортивных играх; наконец, в танце, театре, киноискусстве, на эстраде и в цирке красо'та тела актера, танцора, акробата и пластическое изящество его движений становятся одними из важных компонентов общего художественного впечатления, в одних случаях более значимыми, в других — менее, но всегда необходимыми искусству.
Так в спектре культурных форм жизни человеческого тела вырисовывается еще одна "полоса" — "красивое тело". А она включается в воссоздающую реальную жизнь художественную реальность, становится элементом художественного образа человека, т. е. "выразительным телом": таково тело танцора, актера, клоуна в создаваемых ими образах. Впрочем, зарождается эта форма жизни человеческого тела не в искусстве, а в повседневном общении людей, в котором выразительность мимики, жеста, телодвижения является элементом коммуникативной связи человека с человеком, неотрывным от речи. Жизнь тела становится здесь выразительницей жизни духа, вбирает в себя и ее нравственное содержание, и ее эстетические проявления, но суть ее, ее качественное своеобразие состоят именно в направленном на восприятие другими людьми выражении собственных духовных состояний кинетическим (телесно-динамическим) языком.
В художественную культуру человеческое тело входит, однако, и другим путем — через его изображение теми или иными средствами — скульптурными, графическими, живописными, фотографическими и кинематографическими, словесными. Мы встречаемся здесь с тем, что можно было бы назвать "изображенным телом". Вряд ли нужно доказывать, что не только способ этого изображения, но и его характер есть феномен культуры — исторически меняются изобразительно-выразительные средства, меняются и понимание тела, ощущение его ценности, его культурный смысл; так изображение человеческого тела в искусстве становится носителем культуры, на двух уровнях — и формальном, и содержательном. Понятно, что здесь мы уже вышли за пределы материальной культуры, оказавшись в смежной области культуры художественной.
Все сказанное о жизни тела в культуре в единстве исторического и морфологического ее аспектов можно наглядно представить на следующей схеме (см. схему 22):
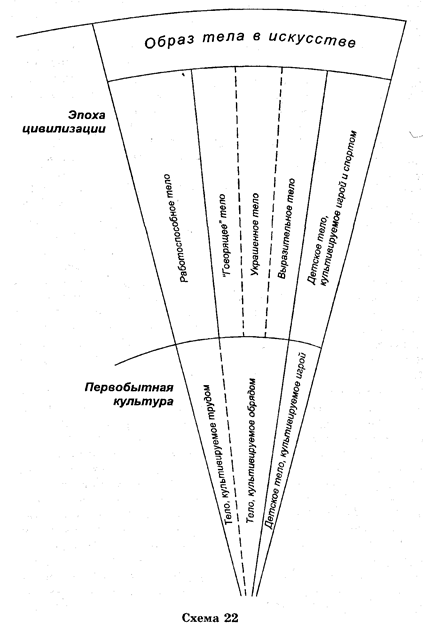
2.
Второй формой опредмечивания материально-созидательной деятельности человека является вещь. Подобно человеческому телу, вещь имеет "двойное подданство" — она есть природно-материальный и одновременно культурный объект. Предысторией вещей является использование первобытным человеком предметов — палки или куска камня — в качестве орудий; однако такой способностью обладают и обезьяны. Собственная история вещей начинается с их изготовления — превращения камня в рубило, палки в копье, шкуры убитого зверя в одежду.
Первая роль, в которой вещь выступает в культуре, — потребительная стоимость. Данное понятие, казалось бы, чисто экономическое, становится таковым только в соотнесении с меновой стоимостью, собственное же его содержание — культурологическое, потому что это способность вещи удовлетворять определенные практические потребности людей, которые уже не чисто биологические, но окультуренные;
потребительная стоимость есть, следовательно, определение меры, полезности вещи человеку.
Полезная вещь — изначальная форма существования вещи в культуре. Но одновременно она становилась средством социальной организации первобытного коллектива — носителем социальной информации, ибо на ее потребительную стоимость наслаивались ценностные смыслы. Так полезная вещь представала перед людьми и как говорящая вещь, т. е. оказалась не только сама собою, но и знаком чего-то иного; ее физическое бытие дополнялось духовным, безусловное — условным, реально-практическое — символическим. Значения, которыми обрастала вещь в первобытной культуре, порождались мифологическими представлениями ее создателей, стремившихся освящать едва ли не каждую рукотворную вещь, дабы она хорошо работала; казалось, что приобщение вещи к миру духов, ее наделение иллюзорными, сверхпотребительскими свойствами — социальной ценностью — обеспечивает ее эффективное использование. Такая синкретическая полезностно-ценностная полифункциональность вещи соответствовала той ступени развития культуры, которая характеризовалась изначальной невыделенностью духовного производства из материального, их диффузной слитностью.
В этом информационном комплексе, заключенном в древнейших вещах, зарождалось и их эстетическое значение,
неотрывное и от утилитарного, и от символического; но здесь же закладывались и основы художественной выразительности вещей. Вот почему так трудно применительно к первобытной культуре выделять искусство и эстетически ориентированное формообразование — эти качества уже возникали, но сплетенные с другими, неэстетическими и нехудожественными; поэтому можно с равной убежденностью доказывать наличие эстетической культуры и художественной культуры в первобытной культуре и оспаривать их существование.
Лишь постепенно, в ходе тысячелетий, процесс дифференциации практических и символических, утилитарных и ценностных свойств вещей вел к обособлению двух классов предметов —- чисто производственных, прозаических, будничных, и ритуальных, наделенных особым культовым, а затем политическим значениями, эстетической ценностью, художественной выразительностью: так сосуды шаманов, жрецов, священнослужителей стали отличаться от обыденных вещей повседневного употребления; так стул царя оказался троном, одежда — мантией, головной убор — короной, шапкой Мономаха т. д. и т. п.
Разумеется, различие между этими двумя классами вещей не было жестким — когда, например, избранные вещи умершего погружались вместе с ним в могилу, их полезные свойства оборачивались магико-символическими. Однако принципиальное значение имела постепенная автономизация семиотически-аксиологической формы функционирования вещи в культуре, делавшая определенные вещи практически бесполезными, но ценностными, священными, политически-осмысленными — короче, "говорящими".
Вместе с тем уже в глубочайшей древности возникает еще одна функция вещи, чисто символическая и лишь моделировавшая ее полезную и ее ритуальную функции: я имею в виду игрушку — вещь, специально предназначенную для ребенка и позволяющую ему овладевать практическим опытом взрослых еще до того, как он станет физически способен пользоваться настоящими вещами. Игрушка — великое изобретение культуры, призванное передавать накапливаемый практический опыт новым поколениям людей и подготавливать их к последующей собственной практической деятельности. Судя по археологическим данным, — находкам маленьких копий орудий труда, оружия, бытовых предметов, — изобретение это можно датировать глубокой древностью, а этнографические данные подтверждают, что у всех известных нам народов существует этот класс миниатюрных символических вещей. Часто игрушка была своеобразным произведением искусства, однако это отнюдь не обязательно — ив древние времена, и в нашу эпоху игрушка может и не иметь художественного характера, а быть просто уменьшенным в размере и практически не употребимым бытовым предметом или оружием, т. е. моделью вещи, предназначенной функционировать только и именно в игре.
Таковы три основных функциональных типа вещи на первом этапе истории культуры — полезные, говорящие, игровые. В дальнейшем, в эпоху цивилизации, в связи с радикальными изменениями общественных отношений, характера общественного производства и общественного потребления, прогрессирующего усложнения жизни, быта, человеческих потребностей стал развиваться процесс дифференциации функций вещи в связи с распадом той изначальной материально-духовно-художественной синкретичности деятельности, которую Марр называл "труд - магическим действием"; процесс этот вел к поляризации и все более дробной спецификации разных функций вещи, обусловленных той или иной ее ролью в культуре. Так полезная вещь уже не только утрачивала ритуально-священный характер, но могла быть даже эстетически-нейтральной, ритуальная вещь становилась чисто символической (вроде хлеба и вина в христианском обряде), а красивая вещь все чаще представала как абсолютно бесполезная — как чистое украшение, полностью "забывшее" о своем первоначальном утилитарном или магическом смысле (как "забыли" об этом серьги, кольца, браслеты, ожерелья). Хотя процесс этот протекал крайне неравномерно — в городской культуре гораздо более последовательно, чем в крестьянской, фольклорной, — его направленность была повсеместной и универсальной.
Вместе с тем сокращалось культурное пространство ритуального функционирования вещей. Причинами тому — и ослабление позиций религии, приводившее к переходу многих предметов культа из разряда действующих в разряд музейных экспонатов, а затем и к простому сокращению производства специально предназначенных для культа вещей, и значительная деритуализация политической и юридической системы — с переходом от монархического к буржуазно-демократическому строю большая часть социально-организационных действий была освобождена от былой ритуальной оболочки (исчезали, скажем, специальная одежда правителей государства, палача, судьи, традиционные атрибуты власти — тронные кресла, жезлы, держава, фамильные
гербы и т. п.). И все же многие вещи сохраняли свои обрядовые функции и соответственно символическое значение в сфере политики, права, организации частной жизни человека —- здания, предназначенные для соответствующих общественных действий, одежда военнослужащих, а подчас и представителей других профессий, государственные флаги, орденские знаки и т. п. Так вещь сохраняла при всех видоизменениях свою способность "говорить", передавая заключенные в ней социокультурные значения. Отсюда — правомерность рассмотрения всего мира вещей как одного из "языков культуры", применяя к его постижению семиотические процедуры, как это делали П. Богатырев, Ю. Лотман и другие ученые. Ибо вещь могла выйти за рамки обрядово-ри-туального использования, но сохранять свое ценностное — уже не религиозное, но политическое или социокультур-ное — значение: так правительственное здание, государст-, венный флаг, мундир военного или чиновника несут приданный им смысл, который срастается с их материальным бытием и воспринимается не только в ситуации того или иного обряда, но в повседневном общении с ними людей; на различных выставках — международных, национальных, местных — экспонаты не работают, а лишь демонстрируют свою способность, работать и тем самым "говорят" о научном, техническом, эстетическом уровне, достигнутом предприятием, фирмой, страной или городом, которые эти вещи представляют. Таким образом, "говорящей вещью" продукты материального производства могут оставаться на протяжении всей истории культуры — и тогда, когда они создаются, и тогда, когда они обретают определенные социокультурные значения, непредусмотренные их создателями, в самом процессе их функционирования, по психологическому закону ассоциативной связи предмета со сферой его "обитания", с обстоятельствами его "жизни". Эти связи позволяют "говорящей вещи" выступать в качестве эмблемы — в гербе, знаках отличия, в политической, коммерческой, спортивной рекламе.
Значительные метаморфозы происходили в ходе развития культуры и с эстетической функцией вещи. Она все более выделялась из изначального полифункционализма вещи, начинала осознаваться как самостоятельная ее ценность, отличная от всех других, подчас даже вступающая с ними в конфликт и конкурирующая с ними за право главенствовать в ее, данной вещи, реальной жизни. В истории производства орудий труда и всех других полезных вещей складывалось чувство формы, которое вело изготовителей к тщательной обработке поверхности, приданию вещам гармоничных пропорций, выверенной тектонической композиции; в спектре ценностно-смысловых свойств вещи красота начинала осознаваться как особое ее свойство — этнографически-лингвистические данные показывают, что само понятие "красивый" сравнительно рано возникает в словаре разных народов, а пифагорейцы сделали красоту предметом специального анализа, признав ее самой сущностью бытия; Сократ, софисты, Платон стали описывать красоту в конкретных ее проявлениях — в лице человека, теле лошади или бытовом предмете — как некое, явно наличествующее, хотя и трудно уловимое качество ("Трудно дается прекрасное'" — завершил Платон свой известный анализ этой проблемы в диалоге "Гиппий Больший"), стараясь понять отличие прекрасного и от полезного, и от приятного, и от пригодного. В практике созидания вещей в античном обществе, а затем в ремесленном производстве средневековья отношение мастера к своим творениям включало непременный эстетический компонент, и потому каждая вещь оказывалась красивой.
Положение стало меняться с развитием промышленного производства. Красота перестала быть непременным спутником пользы, как и информативной нагруженное™ вещи. По разным причинам — и экономического, и технологического, и психологического свойства — производство выпускает теперь множество вещей полезных, но некрасивых, значащих (престижных, например), но бесполезных, или красивых, но бессмысленных и непригодных к практическому употреблению. Разные, кажущиеся нам сейчас парадоксальными проявления этой исторической коллизии — утилитаристский функционализм в архитектуре XX в., лозунг: "Долой красоту!", звучавший в нашей стране в 20-е годы, когда красота казалась пережитком если не капитализма, то феодализма;






